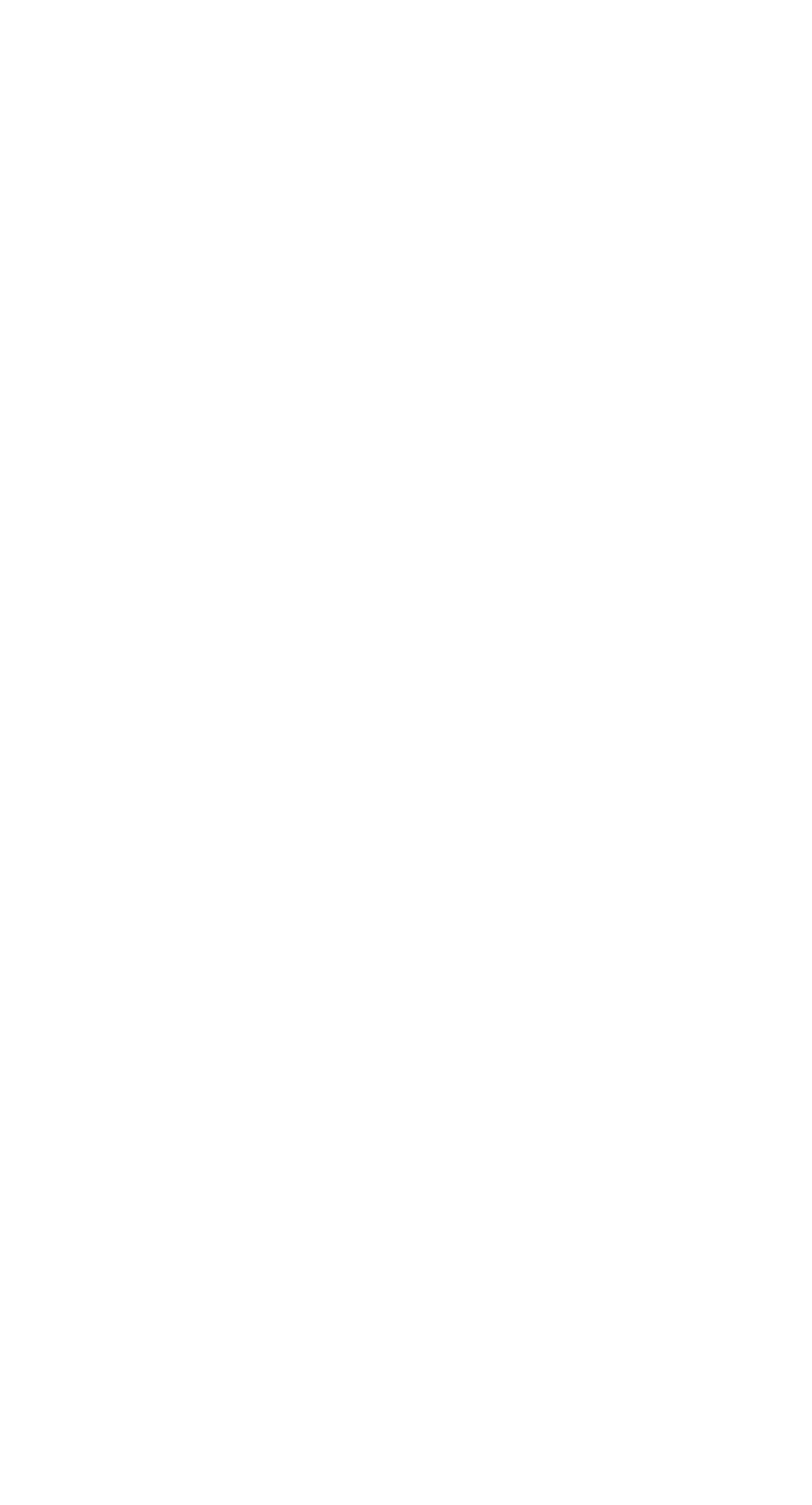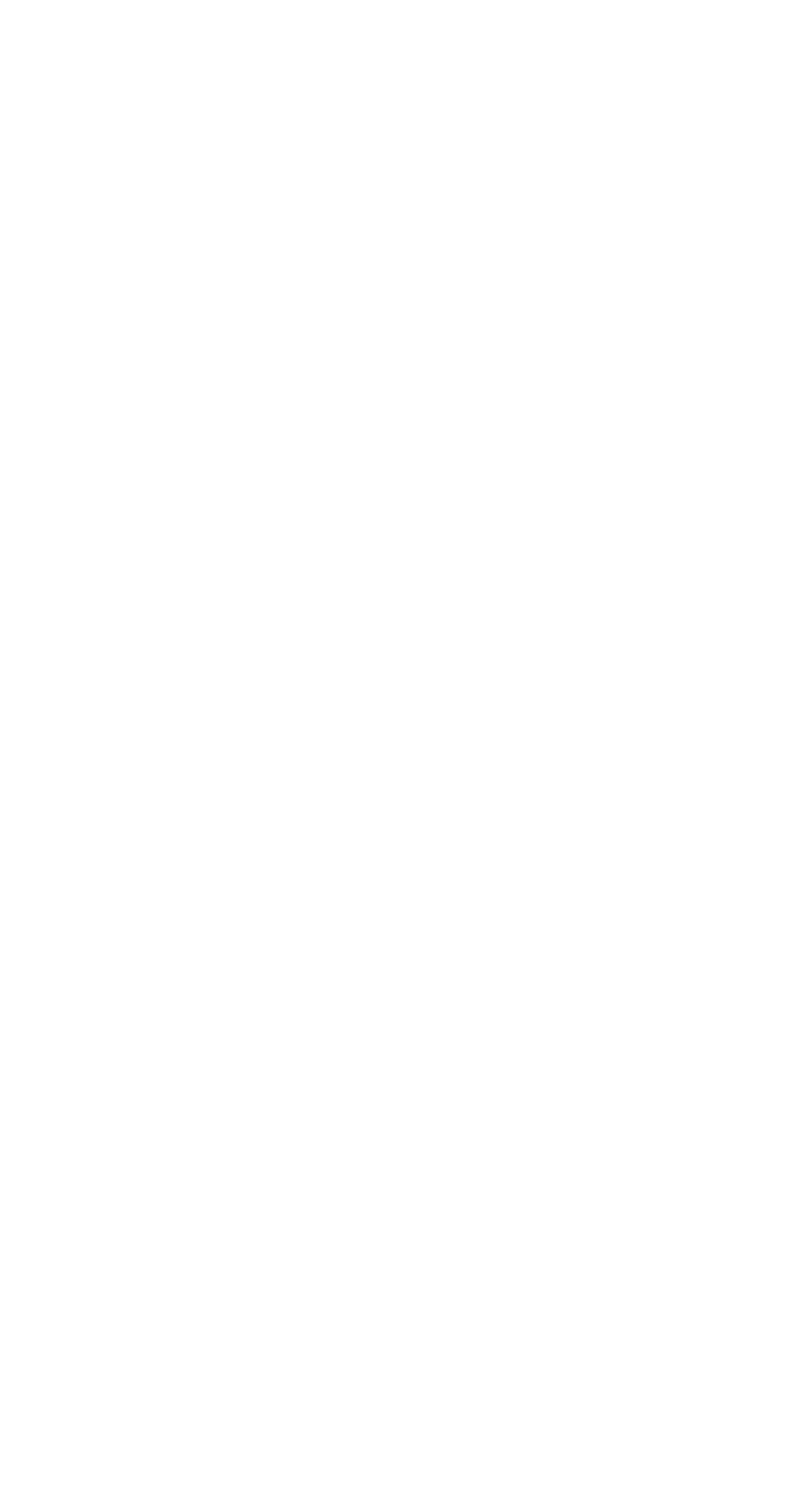1822 год
Список и постановление Главной Екатеринбургских заводов конторы об утверждении сменных списков по передаче дел управляющим золотыми промыслами маркшейдером Маклодом вновь назначенному управляющему гиттенфервалтеру Кокшарову.
ГАСО Ф.41, оп.1, д.660
ГАСО Ф.41, оп.1, д.660
Константин Кокшаров – управитель, отец и дед
Автор – К. Ю. Баранов
Исследуя историю Архангело-Пашийского завода князей Голицыных, основанного в 1785 году, мне неоднократно приходилось сталкиваться с упоминанием о Константине Федотовиче Кокшарове, прибывшем на Урал в том же году и называемом не иначе как «Московский управитель». Постепенно вырисовывалась полная картина его деятельности. До 1785 года Пермское имение Голицыных управлялось Иваном Ивановичем Варокиным старшим. Несмотря на большие его заслуги перед ними, к этому времени у Голицыных накопилось к управляющему достаточное количество претензий. Поэтому к началу строительства нового завода в Пермскую вотчину и был прислан Кокшаров, с 1782 года управлявший из Москвы всеми вотчинами князя Михаила Михайловича. В 1782 году, нанимая его на работу, Голицын писал [1]: «Константин Кокшаров! Я принял тебя к себе в главные управители для управления касающихся по домовой конторе соляных, заводских и вотчинных дел, сопряженных с разными присутственными местами. А равно и к смотрению над всем моим домом, а особливо обо всех расходах имея полное сведение».
Кокшаров пользовался полным доверием князя и имел широчайшие полномочия. Кроме того, ему была выдана отдельная доверенность от Голицына на управление Пермскими владениями от его имени. Владения князя, женатого на наследнице Александра Григорьевича Строганова — Анне Александровне были обширны — соляные промыслы в Новом Усолье и близлежащих селах, железоделательные Нытвенский и половина Кусье-Александровского завода и вотчинные села по рекам Чусовой, Сылве и Каме.
Многие историки, изучавшие деятельность наследников Строганова, отмечали прогрессивность князя Голицына, одним из первых основавшего и школы, и больницы на своих заводах, внедрявшего в производство технологические новшества. Но выясняется, что почти все это заслуга Константина Федотовича Кокшарова, десять лет управления которого существенно изменили устройство вотчины.
Несмотря на отсутствие кадров, противодействие местных приказчиков, привыкших к спокойной, размеренной жизни, и даже позиции самого князя Голицына, который не во всем соглашался со своим управляющим, шаг за шагом Кокшаров проводил свою политику. Не хватает грамотных людей? Надо выстроить систему обучения. Уже через год после пуска первой домны на Архангело-Пашийском заводе в заводскую контору был назначен учитель, для обучения мальчиков. Первая попытка была неудачной и в 1788 году Кокшаров переводит на завод нового учителя — Якова Рябова, который и остается в этой должности 30 лет. Учитель регулярно пишет Кокшарову отчеты об успехах учеников и изучаемых предметах [2]. Но, судя по всему, управляющего это не удовлетворило. Через несколько лет, посещая завод и инспектируя проводимое обучение, он издает указание по всей вотчине. В указании приводится расчет потребных грамотных людей и количество школ, которые надо учредить на заводах, промыслах и в селах [3]. Грамотными должны были быть не только конторские служители, но также все заводские мастера и даже конюхи и дворники. Также им была определена школьная программа и распорядок дня — обучение длилось по 12 часов в день! Предусматривалось и дальнейшее образование наиболее успешных учеников — их отправляли за счет правления в Пермское училище.
Много болезней, заканчивающихся смертью крестьян и мастеровых? В 1787 году в центральной усадьбе поместья — селе Верхомуллинском Кокшаровым учреждается первая больница. В переписке с князем он убеждает его в необходимости развития лекарского дела, обосновывая его тем, что лечение обходится князю дешевле, чем потеря работника. Нанимается доктор, и тут же к нему приставляются лекарские ученики из числа наиболее смышленых служительских детей. По окончании обучения они будут отправлены фельдшерами на заводы и промыслы.
Архангело-Пашийский завод обязан Кокшарову своей планировкой и каменной церковью, которая в настоящее время, увы, заброшена и наполовину разрушена. Церковные нормы того времени не позволяли строительства церкви на заводе из-за недостаточного количества прихожан и наличия церкви в близлежащем селе. Кокшаров организовывает подачу прошений Епископу Вятскому Лаврентию и в Святейший правительствующий Синод и добивается получения разрешения на строительство. После этого, в своих письмах князю он убеждает его, что церковь должна быть каменная [4]. В результате Вятский Епископ в своем докладе в Синод сообщает: «И в оном заводе церковь по данной от меня храмоздатной грамоте строится каменная» [5]. Для строительства церкви нанимаются вольные каменщики, а для украшения ее деревянными фигурами и обучения своих мастеров этому искусству — резчик из Нового Усолья от графа Строганова.
Кокшаров договаривается с правлениями различных частных владельцев — Строгановых, Демидовых и на их заводы отправляются Голицынские приказчики и мастера для изучения и последующего внедрения на своих заводах используемых передовых технологий. Для усовершенствования заводских процессов приглашается служивший у Лазарева «агличанин Осип Самойлович Гиль и помощник его Козьма Осипов» [6].
Отдельной мечтой Кокшарова было создание художественных производств, которые к тому времени уже получили свое развитие на Урале. Отправлены ученики на обучение камнерезному искусству. Резьбе по дереву наиболее способных учат на месте, из Москвы для этого выписан слесарь Богатырев. Чтобы передавать свое мастерство дальше, Богатырев с самыми талантливыми возвращается в Москву, и процесс обучения продолжается.
Обосновывая намерение устроить художественное производство, Кокшаров пишет князю: «Мое ужасное желание настоит, чтоб у вашего сиятельства сия фабрика прославилась» [7]. И вот в Нижний Тагил к уже знаменитым своими лакированными подносами братьям Худояровым перенимать опыт и тонкости профессии отправляются на обучение слесарь и два живописных ученика. По их возвращении на Пашийском заводе основывается «лакированная фабрика», на которой производится модная в то время расписанная лаками металлическая мебель и все те же подносы с лаковыми миниатюрами.
В 1793 году Константин Федотович гордо писал Голицыну: «Не удостоите ль всемилостивейший государь воззреть и на самое уже художество от сей фабрики, и на первой случай полученное в подносимых у сего разного разбору пяти подносам обрабатываемых как слесарною так и живописною и лакированною работою совсем уже без заимствования от посторонних мастеров» [8]. Увы, выпустив несколько десятков изделий, после отъезда Кокшарова из Перми фабрика закрывается.
Но несмотря на такое количество заслуг, его имя практически забыто в наши дни. В некоторых статьях цитируются его распоряжения и письма, но нет никакой информации ни про его происхождение, ни про его семью. Все что удается найти о нем в Пермских архивах — это состав его семьи в 1797 году в исповедной ведомости Николаевской церкви села Верхние Муллы [9]. В ведомости он значится как «Служитель князя Михаила Михайловича Голицына», ему 47 лет и в семье его и жены Анны Алексеевны пятеро детей: Александр 16-ти, Дмитрий 11-ти, Иван 7-ми и две дочери Мария и Ольга трех и двух лет соответственно.
Возникает предположение, а уж не является ли сын Иван 1790 года рождения тем самым Иваном Константиновичем Кокшаровым — управляющим Берёзовскими золотыми промыслами и основателем выдающейся династии Эристовых-Кокшаровых, ну и, в свою очередь, отцом еще более знаменитого Николая Ивановича Кокшарова — известнейшего геолога, профессора и ректора Петербургского горного института. Но уверенности в этом нет, а вот сомнения есть.
В биографии Ивана Константиновича Кокшарова говорится, что он потомственный дворянин, а вряд ли служитель князя (так обычно писали крепостных) мог быть отцом потомственного дворянина. В тексте диплома на дворянское достоинство его отца — «артиллерии коллежского ассесора» Константина Кокшарова указано: «Коллежский ассесор Константин Кокшаров в службу вступил в 1799 году в Санктпетербургское Губернское правление Канцеляристом, того же года февраля 1 Губернским Регистратором, июля 25 Святейшим Правительствующим Синодом произведен в Кадьякскую Духовную Консисторию Секретарем, в 1806 определен в Штат Сибирского Генерал-Губернатора, 1807 апреля 3 произведен в Коллежские Ассесоры, того же года августа 24 перемещен к делам Государственного Казначея» [10].
Отчество Константина не указано, из записи следует, что он с 1799 по 1806 год был секретарем Кадьякской Консистории — а это, ни много ни мало, церковное учреждение на Аляске. В то же время известно, что Константин Кокшаров, который управлял Пермской вотчиной князя Голицына до 1795 года и далее до 1808 года оставался на службе у князя, о чем свидетельствуют его многочисленные деловые письма.
Тем не менее, подтверждение, что это один и тот же человек удалось установить из дела, найденного в Российском государственном историческом архиве. В 1857 году отставной инженер капитан Константин Иванович Кокшаров — сын Ивана Константиновича и внук Константина Федотовича подает прошение о внесении его с семейством в родословную дворянскую книгу города Санкт-Петербурга. В доказательство он приводит множество документов о своем происхождении, проливающих свет как на детали биографии его отца, так и частично деда Константина Федотовича Кокшарова.
В деле [11] находится копия Указа императора Александра I о пожаловании в 1810 году дворянского звания Константину Федотовичу Кокшарову, но в нем повторяется уже известная информация о службе в Кадьякской консистории и Государственном казначействе, которая и вызывала сомнение по поводу идентичности управляющего Константина Кокшарова и новоиспеченного дворянина. Тем не менее, следующий документ развевает все сомнения. В «Удостоверении» Выданном Константину Ивановичу Кокшарову от Нытвенского заводского и вотчинного правления князей Голицыных говорится что «дед его Константин Федотович Кокшаров прибыл из Москвы в село Верхомуллинское и с 9 февраля 1785 года по 9 февраля 1795 года был Главным управителем Пермского имения Князя Михаила Михайловича Голицына, отца и деда настоящих господ владельцев» [12]. Также отмечалось что: «Во всех актах и деловых бумагах означенного времени именовался и подписывался управителем; но из какого происходил звания из дел не видно».
Вот оно, заверенное подтверждение, но все равно остаются вопросы о его происхождении, судьбе его семьи и непонятной одновременной службе у князя Голицына и на Аляске. Следующей находкой стали несколько архивных дел из фонда Голицыных в РГАДА [13]. В этих делах сохранилась личная переписка Константина Федотовича во время его управления Пермскими вотчинами Голицыных.
Во-первых, становится понятным состав его ближайших родственников — мать Агрофена Тихоновна, тетушка Катерина Тихоновна, братья Алексей, Лазарь и Лаврентий, сестра Елена.
Во-вторых, видно, что семейство разбросано по России. Матушка живет в Петербурге, но потом переезжает к сыну на Урал, брат Алексей живет в Пермском крае, Лаврентий перемещается вместе с матушкой, а Лазарь проживает в Нижнем Новгороде.
В-третьих, все члены семьи так или иначе оказываются связаны с графом Александром Сергеевичем Строгановым. Да и места, где они проживают в Пермском крае — села Ильинское, Кудымкор, Егва, Карагай, Новое Усолье — это все вотчины графа.
В переписке тоже встречается упоминание графа в уважительном ключе — «их Сиятельство», «милостливый граф». При всем этом, становится понятно, что это не просто упоминание, а личное знакомство членов семьи с графом. Так, например, брат Лазарь в своем письме сообщает Константину [14], что брат наш Алексей пишет мне, что наш граф сказал, что вы его Сиятельство обижаете, надо бы вам съездить в Петербург оправдать себя перед ним.
Похоже, что все семейство, за исключением Константина Федотовича так или иначе находится в услужении графа Строганова и все они связаны с соляными промыслами в Новом Усолье. Тут надо отметить, что Новое Усолье — центр Строгановского солеварения на Каме к этому времени был поделен между наследниками — внуками Григория Строганова. Князь Голицын владел частью промыслов, так как был женат на Анне Александровне Строгановой — дочке старшего сына — Александра Григорьевича Строганова. А граф Александр Сергеевич был сыном Сергея Григорьевича — младшего сына Григория Строганова. Деление наследства, включая крепостных, длилось десятилетиями и закончилось незадолго до проведения 3-й ревизии (переписи населения) в 1762 году.
Попытка найти семью Кокшаровых среди крепостных служителей, доставшихся по наследству графу Строганову, увенчалась успехом. В селе Кудымкорском были записаны [15] дворовый служитель Федот Степанович Кокшаров 57 лет и его семья, уже знакомая по переписке. Жена Агрофена Тихоновна 40 лет, старший сын Алексей 18 лет, сын Иван 12 лет и еще три их брата Константин 8-ми, Лазарь 5-ти, Лаврентий 3-х лет и сестра Елена 16 лет. Сомнений нет: Управитель князя Голицына и будущий дворянин Константин Федотович Кокшаров — сын дворового служителя графа Александра Сергеевича Строганова.
Ко времени проведения следующей ревизии в 1782 году многие служители Пермской вотчины графа значатся переведенными в Москву и Санкт-Петербург. Очевидно, что и семью Кокшаровых тоже постигла такая участь, но, к сожалению, следующей ревизии дворовых служителей по селу Кудымкорскому не сохранилось и подробности этого перевода остаются неизвестными. Попытки поиска предков Кокшаровых в более ранних источниках тоже не удались.
Во 2-ой ревизии 1747 года в Кудымкоре [16] числится служитель Федот Степанович Кокшаров 40 лет, переведенный из села Новое Усолье, но глубже в переписях он не находится. Остается только надеяться, что в будущем его следы где-нибудь обнаружатся.
Дальнейшие упоминания о судьбе братьев Кокшаровых находятся в разных источниках. Старший брат Алексей был приказчиком в селе Егвинском, где и умер в 1803 году [17]. Братья Лазарь и Лаврентий числятся в Московской вотчине Строганова. Лазарь умирает в 1799 [18] году, а Лаврентий, бывший в свою очередь управителем у графа Строганова [19] в 1812 году, после смерти графа он получает вольную [20]. Сестра Елена жила с мужем в Нижнем Новгороде, но овдовев, переехала к брату и жила в его семье.
Однако все-таки остается вопрос как совмещалась работа на Голицына и служба на Аляске? И ответ все-таки нашелся. После 1795 года Голицын отзывает Кокшарова с Урала и переводит его на жительство в столицу. В Петербурге он достаточно успешно выполняет различные поручения князя, в основном связанные с отстаиванием интересов Голицыных в многочисленных тяжбах, рассматриваемых в Сенате.
В конце XVIII века Голицыны, Строгановы и другие Камские солепромышленники объединились для отстаивания в Сенате своей позиции по формированию закупочных цен на соль, торговля которой в это время была монополизирована государством. Константин Федотович был лучшим кандидатом на выполнение такого довольно сложного поручения. Он даже, с позволения Голицына, получил доверенность от графа Строганова на представление его интересов.
Деятельность его на этом поприще была успешной. Ему удалось убедить Сенат, что закупочную цену надо увеличить с 18 до 28 копеек за пуд. В благодарность он получил премию от князя Голицына 9000 рублей. Столько же пожаловали и солепромышленники Лазаревы. А вот Строгановы выразили свою благодарность по-другому. В своем письме Ивану Варокину в марте 1799 года он пишет, что милостью Строганова и Голицына «звание мне какое сделать службою в чем я теперь и упражняюсь в Правительствующем Синоде дабы с оными я уже в Пермь к прежней моей должности отправился в чем мое главное удовольствие и состоит» [21].
Надо сказать, что так и остается неизвестным, когда и как Константин Федотович был освобожден от крепостной повинности. Вполне возможно, что, будучи уже Управителем вотчин Голицына, он оставался крепостным графа Строганова. Такая практика встречалась в то время. Владелец выдавал «пашпорт», позволяющий его обладателю иметь вольность на срок его действия, но по истечении срока обязан был вернуться к своему владельцу.
Так или иначе, к 1798 году он уже был «вольноотпущенным», а в награду за услуги, а может для придания статуса своему доверенному лицу, Строганов и Голицын решили добиться получения чина для своего бывшего крепостного. И вот, благодаря протекции высокопоставленных лиц, Константин Федотович делает «головокружительную» карьеру". Только 12 января 1799 года он принят на должность канцеляриста в Санкт-Петербургское губернское правление, как уже через 3 недели, 1 февраля «за усердие произведен губернским регистратором» [22]. Губернский регистратор — внеклассный чин, даже не входящий в табель о рангах. Проходит еще 3 недели, и уже 23 февраля он определен в Синод на должность канцеляриста. Тут пришлось подождать нужной вакансии, и вакансия секретаря Кадьякской духовной консистории на Аляске вскоре открылась. На рассмотрение в Синод были представлены три кандидата, один из которых наиболее подходящий для этой должности — канцелярист Иркутской консистории Михаил Громов.
Итог рассмотрения кандидатур был оглашен 25 июля: «В разсуждении усмотренных в нем Кокшарове способностей определен в Кадьякскую духовную консисторию секретарем с пожалованным по месту чином губернского секретаря» [23]. После чего, 19 августа Сенат по ведению Синода постановил: «произведенному в секретари Кадьякской консистории Константину Кокшарову на чин Губернского секретаря дать патент» [24]. Губернский секретарь — это уже 12 класс в табели о рангах. За восемь месяцев он перепрыгнул сразу три ступени!
31 августа 1799 года синод уведомляет Иркутского епископа, что на вакансию Кадьякского секретаря назначен Константин Кокшаров и будет отправлен к епископу Кадьякскому. Но не прошло и месяца, как выходит новый указ, что 27 сентября Константин Кокшаров «вследствие требования адмиралтейской коллегии для определения в должности той коллегии от означенной должности уволен» [25]. При этом отмечается, что: «при беспорочном и честном своем поведении, исправлял он должность свою с отличным усердием». В результате в Кадьякскую консисторию той же осенью отправился наиболее подходящий кандидат — канцелярист Иркутской консистории Михаил Громов.
Тут, наверно можно упомянуть, что отец князя Голицына, тоже Михаил Михайлович возглавлял Адмиралтейскую коллегию до 1762 года, а в 1799 году ее возглавлял адмирал Голенищев-Кутузов, который являлся также членом Академии художеств, а президентом ее, по счастливой случайности, был граф Строганов.
Можно, конечно, посмеяться над такой очевидной махинацией, но, с другой стороны, это был способ обойти существующие правила. Как иначе бывший крепостной, достигший своим умом и трудом существенных успехов, мог получить хоть какой-либо статус в обществе. Управляемое им имение по величине вполне можно было бы сравнить с казенным Гороблагодатским округом, управитель которого имел чин статского советника — 5 класс в табели о рангах. Но Кокшаров управлял имением частным, был сыном крепостного служащего… Возможно, за свои заслуги он был достоин и большего, однако последовавшее в итоге пожалование потомственным дворянством было, наверно, максимально возможной наградой.
Если с чином все образовалось, то с материальным благополучием было не совсем гладко. В 1804 году Константин Федотович Кокшаров получил обещанную пенсию от Голицыных 1200 рублей в год [26] — правда уже от сыновей умершего к этому времени Михаила Голицына, которому верой и правдой он служил всю свою жизнь. Но жизнь в столице дорога, много денег уходило на обучение детей, да и здоровье уже подводило. В 1806 году только долги лечившему его доктору составляли больше тысячи рублей.
В 1811 году Строгановы назначили ему пенсию в 2000 рублей, только и ее не хватало. В любом случае это было гораздо меньше обещанной ему премии за очередную победу в Сенате.
В 1809 году все тем же консорциумом солепромышленников он снова был «приглашен для решения дел и ходотайствования увеличения закупочной цены соли с 28 коп до 40 коп за пуд» [27]. В итоге его деятельности цена была установлена 57 коп за пуд, что увеличило доход солепромышленников на 2 млн. рублей в год.
Но награды не последовало, условия найма Кокшарова для этой работы неизвестны, возможно это вообще все было на словах. Напрасно в своих письмах к сановитым солепромышленникам он пытался напомнить об их обещаниях, напоминая сколько ему было обещано от каждой семьи. Сумма их обещаний была обозначена им как 309 925 рублей. Возможно, на отношение к нему повлиял и еще один фактор. К этому моменту все лично знавшие и нанимавшие его господа: и князь Михаил Михайлович Голицын, и жена его Анна Александровна, и граф Александр Сергеевич Строганов, уже умерли, а наследники явно не спешили выполнять обещания своих родителей. Хотя, к чести и Строгановых, и Голицыных надо сказать, что назначенный ими пенсион выплачивался и после смерти Константина Федотовича его вдове и детям.
Умер надворный советник Константин Федотович Кокшаров в Санкт-Петербурге 11 ноября 1813 года [28] и похоронен на Смоленском православном кладбище [29]. К этому времени он уже продал свой заложенный за долги дом и жил с женой и сестрой, снимая квартиру в доме купца Василия Чертолина, занимавшем участок 256 на Большой Садовой улице [30]. В наши дни это дом № 61 на Садовой, широко известный как дом Лермонтова, снимавшего в нем квартиру в 1836—1837 годах. Поскольку в то время дом был небольшой и двухэтажный, то вполне возможно, что Лермонтов поселился именно в той квартире, где в начале века жили Кокшаровы.
К сожалению, ничего не удалось узнать о его отце — Федоте Степановиче, но именно Константин Федотович может достоверно считаться родоначальником дворянской семьи Кокшаровых. Судьба старшего его сына Александра Константиновича неизвестна. Средний сын Дмитрий Константинович служил в министерстве Финансов, а вот судьба его младшего сына Ивана Константиновича, ставшего родоначальником династии геологов и инженеров хорошо отслеживается по документам все того же дела о внесении внука Константина Федотовича Кокшарова — Константина Ивановича в родословную дворянскую книгу.
Как и его отец за долгие годы своей жизни не накопил Иван Константинович ни капитала, ни земель. Но основное, что осталось и от Константина Федотовича и от сына его Ивана Константиновича — это плоды их труда и их потомки, прославившие фамилию Кокшаровых.
[2] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 717
[3] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 776
[4] РГАДА Фонд 1263, Оп. 10, Дело 1061 Стр. 22
[5] РГИА Фонд 796, Оп. 69, Дело 1061
[6] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 334 Стр. 278
[7] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 351, Стр. 147
[8] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 352, Стр. 1057
[9] ГАПК Фонд 412, Оп. 1, Дело 137, Стр. 2
[10] РГАДА. Фонд 286, Оп.2, Кн.126. Стр.667
[11] РГИА Фонд 1343, Оп. 23, Дело 5217
[12] Там же
[13] РГАДА Фонд 1263, Оп. 1, Дела 7981, 7982, 7984, 7990
[14] РГАДА Фонд 1263, Оп. 1, Дело 7990 Стр.15
[15] РГАДА Фонд 350, Оп. 2, Дело 3316 Стр. 93
[16] РГАДА Фонд 350, Оп. 2, Дело 3308 Стр. 764
[17] ГАПК Фонд 37, Оп.2, Дело 249, Стр. 386
[18] ЦГА Москвы, Фонд 51, Оп. 8, Дело 135, Стр. 616
[19] ЦГА Москвы, Фонд 203, Оп. 745, Дело 38, Стр. 287
[20] ЦГА Москвы, Фонд 51, Оп. 8, Дело 135, Стр. 616
[21] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 395, Стр. 137
[22] РГИА Фонд 796, Оп. 77, Дело 599
[23] Там же
[24] Там же
[25] Там же
[26] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 209, Стр. 24
[27] Там же
[28] Там же
[29] «Петербургский некрополь том 2» С-Петербург Типография М.М. Стасюлевича, 1912 год, стр. 433
[30] Реймерс Г.-Х. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год: [в 2 отд.: пер. с нем.]. – Санкт-Петербург : тип.
Кокшаров пользовался полным доверием князя и имел широчайшие полномочия. Кроме того, ему была выдана отдельная доверенность от Голицына на управление Пермскими владениями от его имени. Владения князя, женатого на наследнице Александра Григорьевича Строганова — Анне Александровне были обширны — соляные промыслы в Новом Усолье и близлежащих селах, железоделательные Нытвенский и половина Кусье-Александровского завода и вотчинные села по рекам Чусовой, Сылве и Каме.
Многие историки, изучавшие деятельность наследников Строганова, отмечали прогрессивность князя Голицына, одним из первых основавшего и школы, и больницы на своих заводах, внедрявшего в производство технологические новшества. Но выясняется, что почти все это заслуга Константина Федотовича Кокшарова, десять лет управления которого существенно изменили устройство вотчины.
Несмотря на отсутствие кадров, противодействие местных приказчиков, привыкших к спокойной, размеренной жизни, и даже позиции самого князя Голицына, который не во всем соглашался со своим управляющим, шаг за шагом Кокшаров проводил свою политику. Не хватает грамотных людей? Надо выстроить систему обучения. Уже через год после пуска первой домны на Архангело-Пашийском заводе в заводскую контору был назначен учитель, для обучения мальчиков. Первая попытка была неудачной и в 1788 году Кокшаров переводит на завод нового учителя — Якова Рябова, который и остается в этой должности 30 лет. Учитель регулярно пишет Кокшарову отчеты об успехах учеников и изучаемых предметах [2]. Но, судя по всему, управляющего это не удовлетворило. Через несколько лет, посещая завод и инспектируя проводимое обучение, он издает указание по всей вотчине. В указании приводится расчет потребных грамотных людей и количество школ, которые надо учредить на заводах, промыслах и в селах [3]. Грамотными должны были быть не только конторские служители, но также все заводские мастера и даже конюхи и дворники. Также им была определена школьная программа и распорядок дня — обучение длилось по 12 часов в день! Предусматривалось и дальнейшее образование наиболее успешных учеников — их отправляли за счет правления в Пермское училище.
Много болезней, заканчивающихся смертью крестьян и мастеровых? В 1787 году в центральной усадьбе поместья — селе Верхомуллинском Кокшаровым учреждается первая больница. В переписке с князем он убеждает его в необходимости развития лекарского дела, обосновывая его тем, что лечение обходится князю дешевле, чем потеря работника. Нанимается доктор, и тут же к нему приставляются лекарские ученики из числа наиболее смышленых служительских детей. По окончании обучения они будут отправлены фельдшерами на заводы и промыслы.
Архангело-Пашийский завод обязан Кокшарову своей планировкой и каменной церковью, которая в настоящее время, увы, заброшена и наполовину разрушена. Церковные нормы того времени не позволяли строительства церкви на заводе из-за недостаточного количества прихожан и наличия церкви в близлежащем селе. Кокшаров организовывает подачу прошений Епископу Вятскому Лаврентию и в Святейший правительствующий Синод и добивается получения разрешения на строительство. После этого, в своих письмах князю он убеждает его, что церковь должна быть каменная [4]. В результате Вятский Епископ в своем докладе в Синод сообщает: «И в оном заводе церковь по данной от меня храмоздатной грамоте строится каменная» [5]. Для строительства церкви нанимаются вольные каменщики, а для украшения ее деревянными фигурами и обучения своих мастеров этому искусству — резчик из Нового Усолья от графа Строганова.
Кокшаров договаривается с правлениями различных частных владельцев — Строгановых, Демидовых и на их заводы отправляются Голицынские приказчики и мастера для изучения и последующего внедрения на своих заводах используемых передовых технологий. Для усовершенствования заводских процессов приглашается служивший у Лазарева «агличанин Осип Самойлович Гиль и помощник его Козьма Осипов» [6].
Отдельной мечтой Кокшарова было создание художественных производств, которые к тому времени уже получили свое развитие на Урале. Отправлены ученики на обучение камнерезному искусству. Резьбе по дереву наиболее способных учат на месте, из Москвы для этого выписан слесарь Богатырев. Чтобы передавать свое мастерство дальше, Богатырев с самыми талантливыми возвращается в Москву, и процесс обучения продолжается.
Обосновывая намерение устроить художественное производство, Кокшаров пишет князю: «Мое ужасное желание настоит, чтоб у вашего сиятельства сия фабрика прославилась» [7]. И вот в Нижний Тагил к уже знаменитым своими лакированными подносами братьям Худояровым перенимать опыт и тонкости профессии отправляются на обучение слесарь и два живописных ученика. По их возвращении на Пашийском заводе основывается «лакированная фабрика», на которой производится модная в то время расписанная лаками металлическая мебель и все те же подносы с лаковыми миниатюрами.
В 1793 году Константин Федотович гордо писал Голицыну: «Не удостоите ль всемилостивейший государь воззреть и на самое уже художество от сей фабрики, и на первой случай полученное в подносимых у сего разного разбору пяти подносам обрабатываемых как слесарною так и живописною и лакированною работою совсем уже без заимствования от посторонних мастеров» [8]. Увы, выпустив несколько десятков изделий, после отъезда Кокшарова из Перми фабрика закрывается.
Но несмотря на такое количество заслуг, его имя практически забыто в наши дни. В некоторых статьях цитируются его распоряжения и письма, но нет никакой информации ни про его происхождение, ни про его семью. Все что удается найти о нем в Пермских архивах — это состав его семьи в 1797 году в исповедной ведомости Николаевской церкви села Верхние Муллы [9]. В ведомости он значится как «Служитель князя Михаила Михайловича Голицына», ему 47 лет и в семье его и жены Анны Алексеевны пятеро детей: Александр 16-ти, Дмитрий 11-ти, Иван 7-ми и две дочери Мария и Ольга трех и двух лет соответственно.
Возникает предположение, а уж не является ли сын Иван 1790 года рождения тем самым Иваном Константиновичем Кокшаровым — управляющим Берёзовскими золотыми промыслами и основателем выдающейся династии Эристовых-Кокшаровых, ну и, в свою очередь, отцом еще более знаменитого Николая Ивановича Кокшарова — известнейшего геолога, профессора и ректора Петербургского горного института. Но уверенности в этом нет, а вот сомнения есть.
В биографии Ивана Константиновича Кокшарова говорится, что он потомственный дворянин, а вряд ли служитель князя (так обычно писали крепостных) мог быть отцом потомственного дворянина. В тексте диплома на дворянское достоинство его отца — «артиллерии коллежского ассесора» Константина Кокшарова указано: «Коллежский ассесор Константин Кокшаров в службу вступил в 1799 году в Санктпетербургское Губернское правление Канцеляристом, того же года февраля 1 Губернским Регистратором, июля 25 Святейшим Правительствующим Синодом произведен в Кадьякскую Духовную Консисторию Секретарем, в 1806 определен в Штат Сибирского Генерал-Губернатора, 1807 апреля 3 произведен в Коллежские Ассесоры, того же года августа 24 перемещен к делам Государственного Казначея» [10].
Отчество Константина не указано, из записи следует, что он с 1799 по 1806 год был секретарем Кадьякской Консистории — а это, ни много ни мало, церковное учреждение на Аляске. В то же время известно, что Константин Кокшаров, который управлял Пермской вотчиной князя Голицына до 1795 года и далее до 1808 года оставался на службе у князя, о чем свидетельствуют его многочисленные деловые письма.
Тем не менее, подтверждение, что это один и тот же человек удалось установить из дела, найденного в Российском государственном историческом архиве. В 1857 году отставной инженер капитан Константин Иванович Кокшаров — сын Ивана Константиновича и внук Константина Федотовича подает прошение о внесении его с семейством в родословную дворянскую книгу города Санкт-Петербурга. В доказательство он приводит множество документов о своем происхождении, проливающих свет как на детали биографии его отца, так и частично деда Константина Федотовича Кокшарова.
В деле [11] находится копия Указа императора Александра I о пожаловании в 1810 году дворянского звания Константину Федотовичу Кокшарову, но в нем повторяется уже известная информация о службе в Кадьякской консистории и Государственном казначействе, которая и вызывала сомнение по поводу идентичности управляющего Константина Кокшарова и новоиспеченного дворянина. Тем не менее, следующий документ развевает все сомнения. В «Удостоверении» Выданном Константину Ивановичу Кокшарову от Нытвенского заводского и вотчинного правления князей Голицыных говорится что «дед его Константин Федотович Кокшаров прибыл из Москвы в село Верхомуллинское и с 9 февраля 1785 года по 9 февраля 1795 года был Главным управителем Пермского имения Князя Михаила Михайловича Голицына, отца и деда настоящих господ владельцев» [12]. Также отмечалось что: «Во всех актах и деловых бумагах означенного времени именовался и подписывался управителем; но из какого происходил звания из дел не видно».
Вот оно, заверенное подтверждение, но все равно остаются вопросы о его происхождении, судьбе его семьи и непонятной одновременной службе у князя Голицына и на Аляске. Следующей находкой стали несколько архивных дел из фонда Голицыных в РГАДА [13]. В этих делах сохранилась личная переписка Константина Федотовича во время его управления Пермскими вотчинами Голицыных.
Во-первых, становится понятным состав его ближайших родственников — мать Агрофена Тихоновна, тетушка Катерина Тихоновна, братья Алексей, Лазарь и Лаврентий, сестра Елена.
Во-вторых, видно, что семейство разбросано по России. Матушка живет в Петербурге, но потом переезжает к сыну на Урал, брат Алексей живет в Пермском крае, Лаврентий перемещается вместе с матушкой, а Лазарь проживает в Нижнем Новгороде.
В-третьих, все члены семьи так или иначе оказываются связаны с графом Александром Сергеевичем Строгановым. Да и места, где они проживают в Пермском крае — села Ильинское, Кудымкор, Егва, Карагай, Новое Усолье — это все вотчины графа.
В переписке тоже встречается упоминание графа в уважительном ключе — «их Сиятельство», «милостливый граф». При всем этом, становится понятно, что это не просто упоминание, а личное знакомство членов семьи с графом. Так, например, брат Лазарь в своем письме сообщает Константину [14], что брат наш Алексей пишет мне, что наш граф сказал, что вы его Сиятельство обижаете, надо бы вам съездить в Петербург оправдать себя перед ним.
Похоже, что все семейство, за исключением Константина Федотовича так или иначе находится в услужении графа Строганова и все они связаны с соляными промыслами в Новом Усолье. Тут надо отметить, что Новое Усолье — центр Строгановского солеварения на Каме к этому времени был поделен между наследниками — внуками Григория Строганова. Князь Голицын владел частью промыслов, так как был женат на Анне Александровне Строгановой — дочке старшего сына — Александра Григорьевича Строганова. А граф Александр Сергеевич был сыном Сергея Григорьевича — младшего сына Григория Строганова. Деление наследства, включая крепостных, длилось десятилетиями и закончилось незадолго до проведения 3-й ревизии (переписи населения) в 1762 году.
Попытка найти семью Кокшаровых среди крепостных служителей, доставшихся по наследству графу Строганову, увенчалась успехом. В селе Кудымкорском были записаны [15] дворовый служитель Федот Степанович Кокшаров 57 лет и его семья, уже знакомая по переписке. Жена Агрофена Тихоновна 40 лет, старший сын Алексей 18 лет, сын Иван 12 лет и еще три их брата Константин 8-ми, Лазарь 5-ти, Лаврентий 3-х лет и сестра Елена 16 лет. Сомнений нет: Управитель князя Голицына и будущий дворянин Константин Федотович Кокшаров — сын дворового служителя графа Александра Сергеевича Строганова.
Ко времени проведения следующей ревизии в 1782 году многие служители Пермской вотчины графа значатся переведенными в Москву и Санкт-Петербург. Очевидно, что и семью Кокшаровых тоже постигла такая участь, но, к сожалению, следующей ревизии дворовых служителей по селу Кудымкорскому не сохранилось и подробности этого перевода остаются неизвестными. Попытки поиска предков Кокшаровых в более ранних источниках тоже не удались.
Во 2-ой ревизии 1747 года в Кудымкоре [16] числится служитель Федот Степанович Кокшаров 40 лет, переведенный из села Новое Усолье, но глубже в переписях он не находится. Остается только надеяться, что в будущем его следы где-нибудь обнаружатся.
Дальнейшие упоминания о судьбе братьев Кокшаровых находятся в разных источниках. Старший брат Алексей был приказчиком в селе Егвинском, где и умер в 1803 году [17]. Братья Лазарь и Лаврентий числятся в Московской вотчине Строганова. Лазарь умирает в 1799 [18] году, а Лаврентий, бывший в свою очередь управителем у графа Строганова [19] в 1812 году, после смерти графа он получает вольную [20]. Сестра Елена жила с мужем в Нижнем Новгороде, но овдовев, переехала к брату и жила в его семье.
Однако все-таки остается вопрос как совмещалась работа на Голицына и служба на Аляске? И ответ все-таки нашелся. После 1795 года Голицын отзывает Кокшарова с Урала и переводит его на жительство в столицу. В Петербурге он достаточно успешно выполняет различные поручения князя, в основном связанные с отстаиванием интересов Голицыных в многочисленных тяжбах, рассматриваемых в Сенате.
В конце XVIII века Голицыны, Строгановы и другие Камские солепромышленники объединились для отстаивания в Сенате своей позиции по формированию закупочных цен на соль, торговля которой в это время была монополизирована государством. Константин Федотович был лучшим кандидатом на выполнение такого довольно сложного поручения. Он даже, с позволения Голицына, получил доверенность от графа Строганова на представление его интересов.
Деятельность его на этом поприще была успешной. Ему удалось убедить Сенат, что закупочную цену надо увеличить с 18 до 28 копеек за пуд. В благодарность он получил премию от князя Голицына 9000 рублей. Столько же пожаловали и солепромышленники Лазаревы. А вот Строгановы выразили свою благодарность по-другому. В своем письме Ивану Варокину в марте 1799 года он пишет, что милостью Строганова и Голицына «звание мне какое сделать службою в чем я теперь и упражняюсь в Правительствующем Синоде дабы с оными я уже в Пермь к прежней моей должности отправился в чем мое главное удовольствие и состоит» [21].
Надо сказать, что так и остается неизвестным, когда и как Константин Федотович был освобожден от крепостной повинности. Вполне возможно, что, будучи уже Управителем вотчин Голицына, он оставался крепостным графа Строганова. Такая практика встречалась в то время. Владелец выдавал «пашпорт», позволяющий его обладателю иметь вольность на срок его действия, но по истечении срока обязан был вернуться к своему владельцу.
Так или иначе, к 1798 году он уже был «вольноотпущенным», а в награду за услуги, а может для придания статуса своему доверенному лицу, Строганов и Голицын решили добиться получения чина для своего бывшего крепостного. И вот, благодаря протекции высокопоставленных лиц, Константин Федотович делает «головокружительную» карьеру". Только 12 января 1799 года он принят на должность канцеляриста в Санкт-Петербургское губернское правление, как уже через 3 недели, 1 февраля «за усердие произведен губернским регистратором» [22]. Губернский регистратор — внеклассный чин, даже не входящий в табель о рангах. Проходит еще 3 недели, и уже 23 февраля он определен в Синод на должность канцеляриста. Тут пришлось подождать нужной вакансии, и вакансия секретаря Кадьякской духовной консистории на Аляске вскоре открылась. На рассмотрение в Синод были представлены три кандидата, один из которых наиболее подходящий для этой должности — канцелярист Иркутской консистории Михаил Громов.
Итог рассмотрения кандидатур был оглашен 25 июля: «В разсуждении усмотренных в нем Кокшарове способностей определен в Кадьякскую духовную консисторию секретарем с пожалованным по месту чином губернского секретаря» [23]. После чего, 19 августа Сенат по ведению Синода постановил: «произведенному в секретари Кадьякской консистории Константину Кокшарову на чин Губернского секретаря дать патент» [24]. Губернский секретарь — это уже 12 класс в табели о рангах. За восемь месяцев он перепрыгнул сразу три ступени!
31 августа 1799 года синод уведомляет Иркутского епископа, что на вакансию Кадьякского секретаря назначен Константин Кокшаров и будет отправлен к епископу Кадьякскому. Но не прошло и месяца, как выходит новый указ, что 27 сентября Константин Кокшаров «вследствие требования адмиралтейской коллегии для определения в должности той коллегии от означенной должности уволен» [25]. При этом отмечается, что: «при беспорочном и честном своем поведении, исправлял он должность свою с отличным усердием». В результате в Кадьякскую консисторию той же осенью отправился наиболее подходящий кандидат — канцелярист Иркутской консистории Михаил Громов.
Тут, наверно можно упомянуть, что отец князя Голицына, тоже Михаил Михайлович возглавлял Адмиралтейскую коллегию до 1762 года, а в 1799 году ее возглавлял адмирал Голенищев-Кутузов, который являлся также членом Академии художеств, а президентом ее, по счастливой случайности, был граф Строганов.
Можно, конечно, посмеяться над такой очевидной махинацией, но, с другой стороны, это был способ обойти существующие правила. Как иначе бывший крепостной, достигший своим умом и трудом существенных успехов, мог получить хоть какой-либо статус в обществе. Управляемое им имение по величине вполне можно было бы сравнить с казенным Гороблагодатским округом, управитель которого имел чин статского советника — 5 класс в табели о рангах. Но Кокшаров управлял имением частным, был сыном крепостного служащего… Возможно, за свои заслуги он был достоин и большего, однако последовавшее в итоге пожалование потомственным дворянством было, наверно, максимально возможной наградой.
Если с чином все образовалось, то с материальным благополучием было не совсем гладко. В 1804 году Константин Федотович Кокшаров получил обещанную пенсию от Голицыных 1200 рублей в год [26] — правда уже от сыновей умершего к этому времени Михаила Голицына, которому верой и правдой он служил всю свою жизнь. Но жизнь в столице дорога, много денег уходило на обучение детей, да и здоровье уже подводило. В 1806 году только долги лечившему его доктору составляли больше тысячи рублей.
В 1811 году Строгановы назначили ему пенсию в 2000 рублей, только и ее не хватало. В любом случае это было гораздо меньше обещанной ему премии за очередную победу в Сенате.
В 1809 году все тем же консорциумом солепромышленников он снова был «приглашен для решения дел и ходотайствования увеличения закупочной цены соли с 28 коп до 40 коп за пуд» [27]. В итоге его деятельности цена была установлена 57 коп за пуд, что увеличило доход солепромышленников на 2 млн. рублей в год.
Но награды не последовало, условия найма Кокшарова для этой работы неизвестны, возможно это вообще все было на словах. Напрасно в своих письмах к сановитым солепромышленникам он пытался напомнить об их обещаниях, напоминая сколько ему было обещано от каждой семьи. Сумма их обещаний была обозначена им как 309 925 рублей. Возможно, на отношение к нему повлиял и еще один фактор. К этому моменту все лично знавшие и нанимавшие его господа: и князь Михаил Михайлович Голицын, и жена его Анна Александровна, и граф Александр Сергеевич Строганов, уже умерли, а наследники явно не спешили выполнять обещания своих родителей. Хотя, к чести и Строгановых, и Голицыных надо сказать, что назначенный ими пенсион выплачивался и после смерти Константина Федотовича его вдове и детям.
Умер надворный советник Константин Федотович Кокшаров в Санкт-Петербурге 11 ноября 1813 года [28] и похоронен на Смоленском православном кладбище [29]. К этому времени он уже продал свой заложенный за долги дом и жил с женой и сестрой, снимая квартиру в доме купца Василия Чертолина, занимавшем участок 256 на Большой Садовой улице [30]. В наши дни это дом № 61 на Садовой, широко известный как дом Лермонтова, снимавшего в нем квартиру в 1836—1837 годах. Поскольку в то время дом был небольшой и двухэтажный, то вполне возможно, что Лермонтов поселился именно в той квартире, где в начале века жили Кокшаровы.
К сожалению, ничего не удалось узнать о его отце — Федоте Степановиче, но именно Константин Федотович может достоверно считаться родоначальником дворянской семьи Кокшаровых. Судьба старшего его сына Александра Константиновича неизвестна. Средний сын Дмитрий Константинович служил в министерстве Финансов, а вот судьба его младшего сына Ивана Константиновича, ставшего родоначальником династии геологов и инженеров хорошо отслеживается по документам все того же дела о внесении внука Константина Федотовича Кокшарова — Константина Ивановича в родословную дворянскую книгу.
Как и его отец за долгие годы своей жизни не накопил Иван Константинович ни капитала, ни земель. Но основное, что осталось и от Константина Федотовича и от сына его Ивана Константиновича — это плоды их труда и их потомки, прославившие фамилию Кокшаровых.
Источники:
[1] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 42, Стр. 2[2] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 717
[3] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 776
[4] РГАДА Фонд 1263, Оп. 10, Дело 1061 Стр. 22
[5] РГИА Фонд 796, Оп. 69, Дело 1061
[6] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 334 Стр. 278
[7] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 351, Стр. 147
[8] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 352, Стр. 1057
[9] ГАПК Фонд 412, Оп. 1, Дело 137, Стр. 2
[10] РГАДА. Фонд 286, Оп.2, Кн.126. Стр.667
[11] РГИА Фонд 1343, Оп. 23, Дело 5217
[12] Там же
[13] РГАДА Фонд 1263, Оп. 1, Дела 7981, 7982, 7984, 7990
[14] РГАДА Фонд 1263, Оп. 1, Дело 7990 Стр.15
[15] РГАДА Фонд 350, Оп. 2, Дело 3316 Стр. 93
[16] РГАДА Фонд 350, Оп. 2, Дело 3308 Стр. 764
[17] ГАПК Фонд 37, Оп.2, Дело 249, Стр. 386
[18] ЦГА Москвы, Фонд 51, Оп. 8, Дело 135, Стр. 616
[19] ЦГА Москвы, Фонд 203, Оп. 745, Дело 38, Стр. 287
[20] ЦГА Москвы, Фонд 51, Оп. 8, Дело 135, Стр. 616
[21] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 395, Стр. 137
[22] РГИА Фонд 796, Оп. 77, Дело 599
[23] Там же
[24] Там же
[25] Там же
[26] ГИМ ОПИ Фонд 14, Оп. 1, Дело 209, Стр. 24
[27] Там же
[28] Там же
[29] «Петербургский некрополь том 2» С-Петербург Типография М.М. Стасюлевича, 1912 год, стр. 433
[30] Реймерс Г.-Х. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год: [в 2 отд.: пер. с нем.]. – Санкт-Петербург : тип.
И.К. Шнора и В.А. Плавильщикова, 1809
Формулярные списки чиновников. Формулярный список управляющего Березовскими золотыми промыслами Кокшарова Ивана Константиновича
1822 год и 1828 год.
1822 год и 1828 год.
Ф.41, ОП. 1, Д. 632
Сын дворянина
Авторы – Т. В. Гребенщикова, К. Ю. Баранов
Весной 2025 года на электронную почту городской библиотеки Берёзовского от Кирилла Баранова из Москвы поступил запрос. Тема письма затрагивала биографию управляющего Берёзовскими золотыми промыслами: «На сайте библиотеки я прочитал статью Татьяны Чевчий «Иван Кокшаров – дворянин, ученый, маркшейдер» и хотел связаться с автором и задать несколько вопросов. Дело в том, что я занимаюсь легендой Горных заводов князей Голицыных, а в конце 18 века управителем их Пермского имения был Константин Федотович Кокшаров. В 1790 году у него родился сын Иван, и я подозреваю, что именно он и был Иваном Константиновичем Кокшаровым, о котором говорится в статье. В статье упоминаются архивные источники. Может быть, есть какая-либо дополнительная информация, позволяющая подтвердить или опровергнуть мою догадку?» Запрос был перенаправлен автору этой публикации, и началась совместная работа с московским исследователем по выявлению истины.
Вообще, когда речь заходит об Иване Константиновиче Кокшарове, в 1822 году ставшем управляющим золотыми промыслами, очень несправедливо акценты сразу смещаются либо в сторону заслуг его знаменитого сына Николая, либо в сторону грузинских князей Эристави, предков жены Ивана Константиновича – Глафиры Степановны. При этом из формулярного списка (ГАСО, Ф.41 Оп.1 Д.632) нам известно, что и сам он «дворянских кровей», но чтобы проследить родословную, нужны какие-то исходные данные, а до настоящего времени они отсутствовали.
Итак, начало новому поиску положил герб Кокшаровых, изображение которого было найдено на сайте «Гербовник». Принадлежал он Константину Кокшарову. Отчество указано не было, но в дипломе о дворянстве Кокшаровых, дарованном владельцу в 1810 году, присутствовали его передвижения по службе: «Коллежский Ассесор Константин Кокшаров в службу вступил в 1799 году в Санкт-Петербургское Губернское правление Канцеляристом, того же года 1 февраля Губернским Регистратором, июля 25 Святейшим Правительствующим синодом произведен в Кадьякскую Духовную консисторию Секретарем, в 1806 году определен в Штат Сибирского Генерал-Губернатора, 1807 апреля 3 произведен в Коллежские Ассесоры, того же года августа 24 перемещен к делам Государственного Казначея. И всегда к службе оказывал усердие и ревность, но на дворянское достоинство, приобретенное по службе чином его, Диплома и Герба не имеет».
Сомнения, что это другой Константин Кокшаров, возникли из расхождений с биографией управляющего Голицинскими имениями. В геральдическом документе указано, что его владелец поступил на службу в 1799 году в Санктпетербургское Губернское правление Канцеляристом и уже через год продолжил карьеру на Аляске и в Сибири, а управитель из Пермской губернии Константин Кокшаров в 1803 году писал Голицыну прошение об отставке, упоминая что служил у князя 21 год. Но практически сразу удалось найти подтверждение, что отчество этих двух, вроде бы разных людей, совпало. Оба они оказались Федотовичи.
На сайте ВГД (Всероссийское генеалогическое древо) были приведены ссылки на архивные дела: РГАДА, Ф.286 Герольдмейстерская контора. Oп. 2. Именной указатель: Кокшаров Константин Федотович - секретарь Кадьякской духовной консистории Кн. 72, Л. 107-108; Кн. 126. Л. 667-673. Это доказывало, что он обладатель герба и диплома, а также, полный тезка Управителя Пермских вотчин.
Благодаря архивным исследованиям, Кириллу Баранову удалось найти документы, «убивающие сразу всех зайцев». В них Константин Федотович Кокшаров оказался в одном лице и дворянином, и поверенным в делах князя Голицына, и, самое важное, отцом управляющего золотыми промыслами Ивана Кокшарова.
В Российском государственном историческом архиве в деле знаменитого минералога Николая Ивановича Кокшарова обнаружилась копия метрической записи о рождении его отца Ивана Константиновича Кокшарова у Коллежского Ассесора Константина Федотова Кокшарова. До этого можно было только предполагать, когда и где он родился.
Итак, дословно: «В метрической книге Верхнемулинской Николаевской церкви Пермского уезда за 1789 год в 1- й части под №161 значится так: В селе Князя Михайла Михайловича Голицына у управителя Коллежского Ассесора Константина Федотова Кокшарова родился сын Иван. Молитвовал и крестил Священник Василий.» Это копия из метрики, самого документа, к сожалению, не сохранилось. Ясно одно, копия на запрос выдавалась позднее, и не факт, что указание на звание отца младенца присутствовало в оригинале – по диплому дата его присвоения 3 апреля 1807 года.
Так или иначе, своему дворянскому происхождению потомки Кокшаровых обязаны именно Константину Федотовичу, о котором рассказано в статье К. Ю. Баранова.
Что касается герба Кокшаровых, то в дипломе содержится его описание: «Щит разделен на четыре части, из коих в первой в голубом поле изображена золотая Звезда и около ее четыре Пчелы. Во второй части в серебряном поле расололивная труба. В третьей части в золотом поле находится белый Медведь, идущий в левую сторону (по факту в правую). В четвертой части две Стерляди в воде плавающие. Щит увенчан дворянским Шлемом и Короною с тремя павлиными перьями. Намет на щите голубой подложенный золотом».
По расшифровке описания можно сделать заключение, какие были занятия и интересы у человека и с какой местностью связана его жизнь. Вот, например, о значении пчёл можно судить по гербу города Осы Пермской губернии – «На хозяйственные особенности указывал герб города Осы Пермской губернии, утверждённый в 1783 г.: «В верхней части щита герб Пермский. В нижней в серебряном поле стоящий на дереве улий с летающими около него пчёлами, означающий, что жители сего города имеют довольно мёду».
А вот о расололивной трубе – «Главную и необходимую принадлежность соляного промысла составляли «рассололивные» трубы или скважины, посредством которых соляной рассол извлекали из недр земли. Соляные пласты залегали в районе Соликамска неглубоко, начиная от 30-40 саженей, и имели высокую концентрацию. Трубы обычно закладывались в пониженных участках рельефа, недалеко от реки, в местах выхода соляных источников. Устройство и опускание деревянных труб было делом сложным и требовало много усилий». На гербе Соликамска 1783 года в нижней его части показана расололивная труба.
Стерлядь. Единственная рыба отряда осетрообразных, обитающая в Пермском крае. Камская стерлядь раньше считалась лучше по качеству, чем стерляди других водоемов Европы и Западной Сибири, и поэтому именно ее подавали к царскому столу.
Белый или серебряный медведь, символ Пермского края, пояснений не требует. Его изображение встречается на всех гербах городов Пермского наместничества. Направлен он в левую сторону.
Из этого следует вывод, что наиболее важным для себя обладатель герба считал Пермскую губернию, города Осу и Соликамск, и, конечно водную артерию края – реку Каму с ее богатствами.
Вообще, когда речь заходит об Иване Константиновиче Кокшарове, в 1822 году ставшем управляющим золотыми промыслами, очень несправедливо акценты сразу смещаются либо в сторону заслуг его знаменитого сына Николая, либо в сторону грузинских князей Эристави, предков жены Ивана Константиновича – Глафиры Степановны. При этом из формулярного списка (ГАСО, Ф.41 Оп.1 Д.632) нам известно, что и сам он «дворянских кровей», но чтобы проследить родословную, нужны какие-то исходные данные, а до настоящего времени они отсутствовали.
Итак, начало новому поиску положил герб Кокшаровых, изображение которого было найдено на сайте «Гербовник». Принадлежал он Константину Кокшарову. Отчество указано не было, но в дипломе о дворянстве Кокшаровых, дарованном владельцу в 1810 году, присутствовали его передвижения по службе: «Коллежский Ассесор Константин Кокшаров в службу вступил в 1799 году в Санкт-Петербургское Губернское правление Канцеляристом, того же года 1 февраля Губернским Регистратором, июля 25 Святейшим Правительствующим синодом произведен в Кадьякскую Духовную консисторию Секретарем, в 1806 году определен в Штат Сибирского Генерал-Губернатора, 1807 апреля 3 произведен в Коллежские Ассесоры, того же года августа 24 перемещен к делам Государственного Казначея. И всегда к службе оказывал усердие и ревность, но на дворянское достоинство, приобретенное по службе чином его, Диплома и Герба не имеет».
Сомнения, что это другой Константин Кокшаров, возникли из расхождений с биографией управляющего Голицинскими имениями. В геральдическом документе указано, что его владелец поступил на службу в 1799 году в Санктпетербургское Губернское правление Канцеляристом и уже через год продолжил карьеру на Аляске и в Сибири, а управитель из Пермской губернии Константин Кокшаров в 1803 году писал Голицыну прошение об отставке, упоминая что служил у князя 21 год. Но практически сразу удалось найти подтверждение, что отчество этих двух, вроде бы разных людей, совпало. Оба они оказались Федотовичи.
На сайте ВГД (Всероссийское генеалогическое древо) были приведены ссылки на архивные дела: РГАДА, Ф.286 Герольдмейстерская контора. Oп. 2. Именной указатель: Кокшаров Константин Федотович - секретарь Кадьякской духовной консистории Кн. 72, Л. 107-108; Кн. 126. Л. 667-673. Это доказывало, что он обладатель герба и диплома, а также, полный тезка Управителя Пермских вотчин.
Благодаря архивным исследованиям, Кириллу Баранову удалось найти документы, «убивающие сразу всех зайцев». В них Константин Федотович Кокшаров оказался в одном лице и дворянином, и поверенным в делах князя Голицына, и, самое важное, отцом управляющего золотыми промыслами Ивана Кокшарова.
В Российском государственном историческом архиве в деле знаменитого минералога Николая Ивановича Кокшарова обнаружилась копия метрической записи о рождении его отца Ивана Константиновича Кокшарова у Коллежского Ассесора Константина Федотова Кокшарова. До этого можно было только предполагать, когда и где он родился.
Итак, дословно: «В метрической книге Верхнемулинской Николаевской церкви Пермского уезда за 1789 год в 1- й части под №161 значится так: В селе Князя Михайла Михайловича Голицына у управителя Коллежского Ассесора Константина Федотова Кокшарова родился сын Иван. Молитвовал и крестил Священник Василий.» Это копия из метрики, самого документа, к сожалению, не сохранилось. Ясно одно, копия на запрос выдавалась позднее, и не факт, что указание на звание отца младенца присутствовало в оригинале – по диплому дата его присвоения 3 апреля 1807 года.
Так или иначе, своему дворянскому происхождению потомки Кокшаровых обязаны именно Константину Федотовичу, о котором рассказано в статье К. Ю. Баранова.
Что касается герба Кокшаровых, то в дипломе содержится его описание: «Щит разделен на четыре части, из коих в первой в голубом поле изображена золотая Звезда и около ее четыре Пчелы. Во второй части в серебряном поле расололивная труба. В третьей части в золотом поле находится белый Медведь, идущий в левую сторону (по факту в правую). В четвертой части две Стерляди в воде плавающие. Щит увенчан дворянским Шлемом и Короною с тремя павлиными перьями. Намет на щите голубой подложенный золотом».
По расшифровке описания можно сделать заключение, какие были занятия и интересы у человека и с какой местностью связана его жизнь. Вот, например, о значении пчёл можно судить по гербу города Осы Пермской губернии – «На хозяйственные особенности указывал герб города Осы Пермской губернии, утверждённый в 1783 г.: «В верхней части щита герб Пермский. В нижней в серебряном поле стоящий на дереве улий с летающими около него пчёлами, означающий, что жители сего города имеют довольно мёду».
А вот о расололивной трубе – «Главную и необходимую принадлежность соляного промысла составляли «рассололивные» трубы или скважины, посредством которых соляной рассол извлекали из недр земли. Соляные пласты залегали в районе Соликамска неглубоко, начиная от 30-40 саженей, и имели высокую концентрацию. Трубы обычно закладывались в пониженных участках рельефа, недалеко от реки, в местах выхода соляных источников. Устройство и опускание деревянных труб было делом сложным и требовало много усилий». На гербе Соликамска 1783 года в нижней его части показана расололивная труба.
Стерлядь. Единственная рыба отряда осетрообразных, обитающая в Пермском крае. Камская стерлядь раньше считалась лучше по качеству, чем стерляди других водоемов Европы и Западной Сибири, и поэтому именно ее подавали к царскому столу.
Белый или серебряный медведь, символ Пермского края, пояснений не требует. Его изображение встречается на всех гербах городов Пермского наместничества. Направлен он в левую сторону.
Из этого следует вывод, что наиболее важным для себя обладатель герба считал Пермскую губернию, города Осу и Соликамск, и, конечно водную артерию края – реку Каму с ее богатствами.
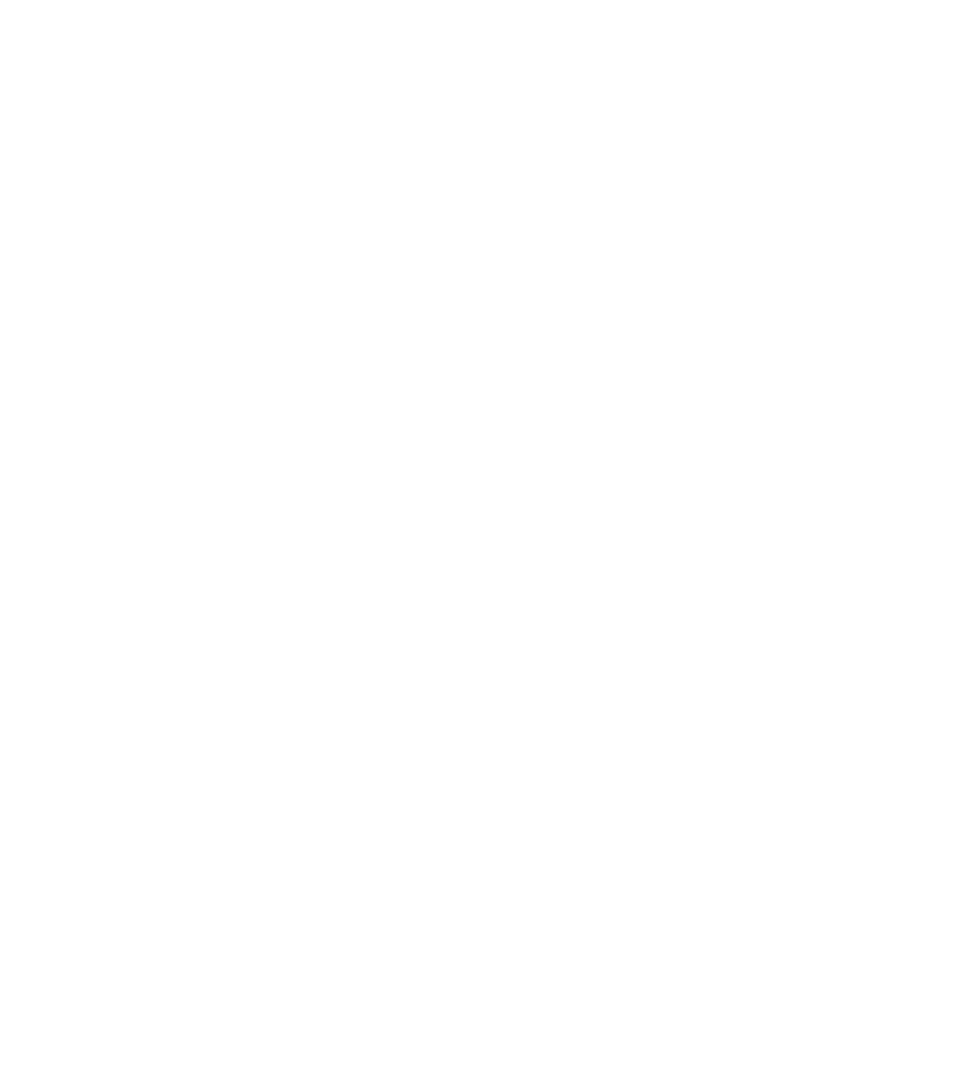
О профессиональной деятельности Ивана Константиновича Кокшарова довольно подробно мы читаем в его формулярном списке.
(ГАСО, Ф. 41, оп. 1, д. 632)
Чин, имя отчество и прозвание, также какие имеет ордена и прочие знаки отличия:
В 1822 году гиттен фервалтер 10 класса Иван Константинов Кокшаров служит
Бергмейстером по золотым промыслам с присудствованием в Берёзовской конторе и сверх того в Екатеринбургском Горном военном суде присутствует за ассесора по делу о злоупотреблениях и беспорядках, случившихся в 1819 году по Берёзовским золотым промыслам. (Результатом этих волнений стала ссылка зачинщиков на Гороблагодатские и Богословские заводы и наказание наиболее строптивых палками и шпицрутенами.)
В 1822 году – происхождение Ивана Константиновича указано как сын коллежского ассесора, ему 33 года.
В службу вступил из Горного кадетского корпуса шихтмейстером 13-го класса 10 февраля 1810 года.
Произведен Берг-гешвореном 1 мая 1813 года,
Гиттенфервалтером 1818 года июля 1-го числа со старшинством 1816 года 1 мая.
С поступления в 1810 году из С-Петербурга на Колывано-Воскресенские заводы находился в Барнаульском заводе при письменном производстве и приставом цехов, между тем посылан был по заводам и рудникам для замечания в 1812 году за препровождением каравана с серебром в С-Петербург, по приезде куда за представленные замечания казенным заводам хребта Уральского произведен кабинетом Его величества в Берг-гешворены.
В 1814 и 1815 отряжен был по следственным делам и другим поручениям.
С декабря 1815 в С-Петербург за препровождением каравана с серебром,
по его завершении с сентября 1816 в должности пристава при Барнаульском заводе,
а с 9-го апреля 1817 года приставом Николаевского рудника и других ведений оного в том же году за препровождением дела о убийстве в Зыряновском руднике одного бергайера.
С 28-го июля 1818 года в городе Енисейске коммиссионером по казенной поставке нерчинского свинца в Колыванские заводы.
По возвращении оттуда с 1-го апреля 1819 года приставом Николаевского рудника,
с 19 января 1820 года по 5-е число марта 1821 года в Змеевской комиссии военного суда за асессора,
с 10 числа июня 1821 года на Екатеринбургские золотые промыслы Бергмейстером с присудствованием в Берёзовской горной Конторе и сверх того
с 12 числа октября того же года в Екатеринбургском горном военном суде исправлял должность за асессора,
с 7 августа 1822 года управляющим Екатеринбургскими золотыми промыслами. Сверх сей должности занимаем был по особенным поручениям Г. начальника заводов как то: для усовершенствования плавки серебросодержащих руд в Павловском и Гавриловском заводах и другим подобным по искусственной части.
Какие знает науки и где был обучаем: Российскому, немецкому и французскому чтению и письму, грамматикам сих языков, переводам с немецкого и французского на российский и с сего последнего на два первые, закону Божию, логике, риторике, всеобщей и российской географии, всеобщей и российской истории, мифологии, арифметике, геометрии, алгебре, высшей геометрии, ботанике, зоологии, физике, рисованию так же и танцевать, химии, горному искусству, фрихтогнозии и французской словесности, металлургии, пробирному искусству, высшей математике, геогнозии и немецкой словесности, гражданской архитектуре. Обучаем в Горном кадетском корпусе. За примерное благонравие, похвальное поведение и за успехи в науках награжден был книгою, одною серебряною и одною меньшею золотою медалями.
Женат на дочери Генерал-лейтенанта князя Эристова Глафире Степановой, имеющей от роду 24 года. Детей имеют: сыновей Николая 3-х лет, Александра 1 и 1/2 лет; дочь Марью 1 и 1/2 лет (близнецы), сына Дмитрия 1/2 года.
В 1828 году послужной список дополнен:
Маркшейдером 9-го класса 4 июля 1823 года, имеет орден святыя Анны 3-ей степени и бронзовую на владимирской ленте на 1822 год медаль. (09.02.1825 награждены орденом святой Анны 3 степени маркшейдеры Кокшаров и Порозов – информация размещена в газете Русский инвалид №50 от 28 февраля 1825 года.)
За отличную службу удостоен Высочайшего благоволения 28 апреля 1828 года.
В 1828 году также значится: Детей имеет Николая - 9, Александра 7 1/2, Марью 7 1/2 (близнецов), Дмитрия 6 1/2, Константина 5, Ивана 3 1/2. В 1827 году был еще записан сын Павел 1 1/2 года, который умер 3 мая того же года.
В сведениях об отпусках указано: был не в службе 1821 года марта с 5 числа по 10 число июня месяца.
Что же еще можно узнать об этом человеке. Обратимся к газете «Санкт-Петербургские сенатские ведомости» – печатному изданию Правительствующего сената в Российской империи, выходившему в 1809—1917 годах в городе Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высочайшие указы, приказы, новые правительственные распоряжения, указы об увольнениях, наградах и другие материалы.
В списке чиновников Министерства финансов, которым объявлено Монаршее благоволение, значится маркшейдер 9-го класса управляющий Екатеринбургскими золотыми промыслами Кокшаров. Документ датируется 19 июня 1828 года.
07 июля 1842 года Кокшаров – чиновник 6-го класса, помощник почтового инспектора XI округа, награжден орденом святой Анны 3 степени.
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-pochtovoy-svyazi-zapadnoy-sibiri-v-pervoy-treti-xix-v
При императоре Николае I в 1830 г. начались очередные административные реформы в области связи. 22 октября указом императора пять из семи губернских почтамтов, в том числе и Сибирский, были упразднены. Вместо них учреждались губернские почтовые конторы в губернских городах. Все почтамты, кроме Московского и Петербургского, лишились прежних административных прав. Почтовые учреждения России, кроме относившихся к Московской и Петербургской губерниям, были распределены между 11 округами. Округа возглавили почтинспекторы. На самом верху лестницы почтовых чинов стоял «главноначальствующий над почтовым департаментом», докладывавший царю лично о положении дел в своём департаменте. В течение 1819-1842 гг. этот пост занимал князь А.Н. Голицын. Далее шли почтинспекторы 11 округов, затем губернские и городовые (уездные) почтмейстеры. К двум последним чинам по окладу жалования и положению близко подходили экспедиторы главных почтамтов [1. С. 15]. Кроме того, у почтинспекторов и почтмейстеров были помощники.
Затем следовала средняя масса почтовых чинов, постепенно спускавшаяся к «нижним канцелярским служителям» (протоколисты, переводчики, архивариусы, регистраторы, экспедиторы). На нижних ступенях этой лестницы стояли чиновники 12-14-го класса Табели о рангах с окладом 300-400 руб. в год. Последний классный чин (14-й) имели станционные смотрители. За чиновниками шли унтер-офицеры, инвалиды, сторожа, солдаты, почтальоны. Они несли охрану почтовых мест, ездили с почтой и эстафетами, исполняли различную чёрную работу при учреждениях. Наконец, по роду занятий были тесно связаны с почтой ямщики [1. С. 15-16].
В соответствии с новой структурой губернский город Тобольск, где ранее находился бывший Сибирский почтамт, стал центром XI почтового округа, сохранив статус «почтовой столицы Сибири». Почтовые службы двух западносибирских губерний - Тобольской и Томской - сравнялись в статусах. Хотя томские связисты по-прежнему находились в административном подчинении Тобольска, теперь уже почт-инспектора XI округа [3. С. 225-226].
Помощник почтинспектора контролировал работу почтмейстеров всех уровней, начиная с губернского. В 1831 г. его жалованье было выше (2 000 руб.), чем у губернского почтмейстера (1 500 руб.) [21. Л. 41-41а]. Таким образом, преобразования в почтовой системе Западной Сибири первой половины XIX в. являлись частью реформ связи общероссийского характера. Дальнейшие серьёзные изменения в административном устройстве общероссийской, а вместе с ней и сибирской почты происходили уже во второй половине XIX столетия.
Дальнейшие передвижения по служебной лестнице таковы: в 1844 году – чиновник 7-го класса, помощник почтового инспектора XI округа, коллежский советник. Производится за выслугу лет из коллежских в статские советники со старшинством с 07 июля 1846 года.
В 1848 году – коллежский советник, помощник почтового инспектора XI округа. Почтовым инспектором в это время служит статский советник Михаил Власьевич Грум-Гжимайло.
15 марта 1848 года помощник почтового инспектора XI округа статский советник Кокшаров переводится в Тобольское губернское правление советником по экспедиции о ссыльных.
07 июля 1848 года Кокшаров Иван Константинович – чиновник 5-го класса, советник Тобольского губернского правления, награжден орденом святой Анны 3 степени.
Увольнение от службы состоялось 16 ноября 1851 года по собственному прошению статского советника Тобольского губернского правления Кокшарова.
Эта же информация о судьбе Ивана Константиновича Кокшарова, ставшего родоначальником династии геологов и инженеров, также хорошо отслеживается по документам дела о внесении его сына Константина Ивановича Кокшарова в родословную дворянскую книгу.
Из приведенной выписки из метрической книги села Верхомуллинского (сама книга в архивах не сохранилась) мы узнаем, что родился Иван Константинович 18 мая 1789 года. (В деле сына Николая точной даты рождения указано не было.) Другие приведенные документы свидетельствуют, что с марта 1804 года он был пансионером горного кадетского корпуса «на собственном иждевении». По окончании публичных экзаменов был награжден «книгою, одною серебряною и одной золотою меньшими медалями». А по выпуске из корпуса 10 февраля 1810 года в чине Шихмейстера 13 класса принят на службу на Колывано-Воскресенские заводы. Во время следования к месту службы в соответствии с выданным ему приказом «обозревал на пути лежащие от Петербурга до Барнаула казенные заводы и промысла» и подготовил обширную докладную записку с «зделанные им горному и заводскому производству тех заводов и промыслов замечания», был исправен по службе и своевременно получал последующие сначала горные звания: Бергешворенном 12 класса в 1812, Гиттенфервалтера 10 класса в 1818 году, Маркшейдера 9 класса в 1823 году, Обер Гиттенфервалтера 8 класса в 1829, Обер Бегмейстера 7 класса в 1832 году, а затем и гражданские звания: Коллежского Советника в 1844 и Статского советника в 1846 году. В 1825 году был пожалован орденом Святой Анны 3 степени.
Несколько раз был откомандирован препровождать караваны с серебром в Санкт Петербург, служил в должности пристава при Барнаульских заводах, помощником начальникам заводов по особым поручениям, занимался поставкой свинца на заводы, был ассесором военного суда. Подал в отставку и был уволен с заводов 5 марта 1821 года и в том же году 10 июня принят в ведомство Екатеринбургских заводов, помещен на Берёзовские золотые промысла и через год возглавил их как управитель, прослужил которым следующие 12 лет. В январе 1834 года определен был чиновником разных поручений в Главную контору Екатеринбургских заводов.
Но не обошлось и без ложки дегтя – в том же 1834 году он был предан суду за упущение при строительстве канала по осушению в Екатеринбурге Шарташского озера. Разбирательство длилось несколько лет, и в результате, с учетом его заслуг во время продолжительной безупречной службы наказание было достаточно мягким – строгий выговор и запрет на выполнение подобных работ в дальнейшем.
Возможно, это и послужило причиной его переезда. В 1837 году он подал прошение об отставке, мотивируя это ухудшимся здоровьем и в 1842 переселился в Красноярск, заняв скромную должность помощника почтового инспектора, а через год в Тобольск на такую же должность. Но, судя по всему, его организаторские способности не остались незамеченными и в 1848 году он назначен Советником Тобольского Губернского правления по экспедиции, а вскоре и возглавил это правление. В том же году во время эпидемии холеры был членом губернского холерного комитета. Дважды награждался почетным знаком за 20 и 25 лет безупречной службы.
Закончил он свою карьеру в должности Советника Тобольского Губернского Правления в 1848 году. В документе зафиксировано, что недвижимого имения ни родового, ни приобретенного он не имел, а жена его имеет дом в Екатеринбурге. 30 ноября 1851 года по выходе в отставку Тобольским Губернским правлением им с женой выдан паспорт, позволяющий проживать во всех местах Российской империи. В 1856 году его уже вдова, Глафира Степановна, делала копию с этого «паспорта», хлопоча о пенсии, а умер Иван Константинович в возрасте 68 лет 16 июля 1856 года, отпет в Симеоно-Аннинском храме Сысертского завода и похоронен на приходском кладбище. В то время управляющим здесь служил сын Ивана Константиновича – Константин Иванович Кокшаров.
Сейчас, когда постепенно открывается удаленный доступ к архивным документам, каждый желающий может непосредственно ознакомиться с источниками, если повезет, обнаружить новые факты из жизни и биографии людей, оставивших свой след в истории государства и нашего «золотого» города Берёзовского.
(ГАСО, Ф. 41, оп. 1, д. 632)
Чин, имя отчество и прозвание, также какие имеет ордена и прочие знаки отличия:
В 1822 году гиттен фервалтер 10 класса Иван Константинов Кокшаров служит
Бергмейстером по золотым промыслам с присудствованием в Берёзовской конторе и сверх того в Екатеринбургском Горном военном суде присутствует за ассесора по делу о злоупотреблениях и беспорядках, случившихся в 1819 году по Берёзовским золотым промыслам. (Результатом этих волнений стала ссылка зачинщиков на Гороблагодатские и Богословские заводы и наказание наиболее строптивых палками и шпицрутенами.)
В 1822 году – происхождение Ивана Константиновича указано как сын коллежского ассесора, ему 33 года.
В службу вступил из Горного кадетского корпуса шихтмейстером 13-го класса 10 февраля 1810 года.
Произведен Берг-гешвореном 1 мая 1813 года,
Гиттенфервалтером 1818 года июля 1-го числа со старшинством 1816 года 1 мая.
С поступления в 1810 году из С-Петербурга на Колывано-Воскресенские заводы находился в Барнаульском заводе при письменном производстве и приставом цехов, между тем посылан был по заводам и рудникам для замечания в 1812 году за препровождением каравана с серебром в С-Петербург, по приезде куда за представленные замечания казенным заводам хребта Уральского произведен кабинетом Его величества в Берг-гешворены.
В 1814 и 1815 отряжен был по следственным делам и другим поручениям.
С декабря 1815 в С-Петербург за препровождением каравана с серебром,
по его завершении с сентября 1816 в должности пристава при Барнаульском заводе,
а с 9-го апреля 1817 года приставом Николаевского рудника и других ведений оного в том же году за препровождением дела о убийстве в Зыряновском руднике одного бергайера.
С 28-го июля 1818 года в городе Енисейске коммиссионером по казенной поставке нерчинского свинца в Колыванские заводы.
По возвращении оттуда с 1-го апреля 1819 года приставом Николаевского рудника,
с 19 января 1820 года по 5-е число марта 1821 года в Змеевской комиссии военного суда за асессора,
с 10 числа июня 1821 года на Екатеринбургские золотые промыслы Бергмейстером с присудствованием в Берёзовской горной Конторе и сверх того
с 12 числа октября того же года в Екатеринбургском горном военном суде исправлял должность за асессора,
с 7 августа 1822 года управляющим Екатеринбургскими золотыми промыслами. Сверх сей должности занимаем был по особенным поручениям Г. начальника заводов как то: для усовершенствования плавки серебросодержащих руд в Павловском и Гавриловском заводах и другим подобным по искусственной части.
Какие знает науки и где был обучаем: Российскому, немецкому и французскому чтению и письму, грамматикам сих языков, переводам с немецкого и французского на российский и с сего последнего на два первые, закону Божию, логике, риторике, всеобщей и российской географии, всеобщей и российской истории, мифологии, арифметике, геометрии, алгебре, высшей геометрии, ботанике, зоологии, физике, рисованию так же и танцевать, химии, горному искусству, фрихтогнозии и французской словесности, металлургии, пробирному искусству, высшей математике, геогнозии и немецкой словесности, гражданской архитектуре. Обучаем в Горном кадетском корпусе. За примерное благонравие, похвальное поведение и за успехи в науках награжден был книгою, одною серебряною и одною меньшею золотою медалями.
Женат на дочери Генерал-лейтенанта князя Эристова Глафире Степановой, имеющей от роду 24 года. Детей имеют: сыновей Николая 3-х лет, Александра 1 и 1/2 лет; дочь Марью 1 и 1/2 лет (близнецы), сына Дмитрия 1/2 года.
В 1828 году послужной список дополнен:
Маркшейдером 9-го класса 4 июля 1823 года, имеет орден святыя Анны 3-ей степени и бронзовую на владимирской ленте на 1822 год медаль. (09.02.1825 награждены орденом святой Анны 3 степени маркшейдеры Кокшаров и Порозов – информация размещена в газете Русский инвалид №50 от 28 февраля 1825 года.)
За отличную службу удостоен Высочайшего благоволения 28 апреля 1828 года.
В 1828 году также значится: Детей имеет Николая - 9, Александра 7 1/2, Марью 7 1/2 (близнецов), Дмитрия 6 1/2, Константина 5, Ивана 3 1/2. В 1827 году был еще записан сын Павел 1 1/2 года, который умер 3 мая того же года.
В сведениях об отпусках указано: был не в службе 1821 года марта с 5 числа по 10 число июня месяца.
Что же еще можно узнать об этом человеке. Обратимся к газете «Санкт-Петербургские сенатские ведомости» – печатному изданию Правительствующего сената в Российской империи, выходившему в 1809—1917 годах в городе Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высочайшие указы, приказы, новые правительственные распоряжения, указы об увольнениях, наградах и другие материалы.
В списке чиновников Министерства финансов, которым объявлено Монаршее благоволение, значится маркшейдер 9-го класса управляющий Екатеринбургскими золотыми промыслами Кокшаров. Документ датируется 19 июня 1828 года.
07 июля 1842 года Кокшаров – чиновник 6-го класса, помощник почтового инспектора XI округа, награжден орденом святой Анны 3 степени.
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-pochtovoy-svyazi-zapadnoy-sibiri-v-pervoy-treti-xix-v
При императоре Николае I в 1830 г. начались очередные административные реформы в области связи. 22 октября указом императора пять из семи губернских почтамтов, в том числе и Сибирский, были упразднены. Вместо них учреждались губернские почтовые конторы в губернских городах. Все почтамты, кроме Московского и Петербургского, лишились прежних административных прав. Почтовые учреждения России, кроме относившихся к Московской и Петербургской губерниям, были распределены между 11 округами. Округа возглавили почтинспекторы. На самом верху лестницы почтовых чинов стоял «главноначальствующий над почтовым департаментом», докладывавший царю лично о положении дел в своём департаменте. В течение 1819-1842 гг. этот пост занимал князь А.Н. Голицын. Далее шли почтинспекторы 11 округов, затем губернские и городовые (уездные) почтмейстеры. К двум последним чинам по окладу жалования и положению близко подходили экспедиторы главных почтамтов [1. С. 15]. Кроме того, у почтинспекторов и почтмейстеров были помощники.
Затем следовала средняя масса почтовых чинов, постепенно спускавшаяся к «нижним канцелярским служителям» (протоколисты, переводчики, архивариусы, регистраторы, экспедиторы). На нижних ступенях этой лестницы стояли чиновники 12-14-го класса Табели о рангах с окладом 300-400 руб. в год. Последний классный чин (14-й) имели станционные смотрители. За чиновниками шли унтер-офицеры, инвалиды, сторожа, солдаты, почтальоны. Они несли охрану почтовых мест, ездили с почтой и эстафетами, исполняли различную чёрную работу при учреждениях. Наконец, по роду занятий были тесно связаны с почтой ямщики [1. С. 15-16].
В соответствии с новой структурой губернский город Тобольск, где ранее находился бывший Сибирский почтамт, стал центром XI почтового округа, сохранив статус «почтовой столицы Сибири». Почтовые службы двух западносибирских губерний - Тобольской и Томской - сравнялись в статусах. Хотя томские связисты по-прежнему находились в административном подчинении Тобольска, теперь уже почт-инспектора XI округа [3. С. 225-226].
Помощник почтинспектора контролировал работу почтмейстеров всех уровней, начиная с губернского. В 1831 г. его жалованье было выше (2 000 руб.), чем у губернского почтмейстера (1 500 руб.) [21. Л. 41-41а]. Таким образом, преобразования в почтовой системе Западной Сибири первой половины XIX в. являлись частью реформ связи общероссийского характера. Дальнейшие серьёзные изменения в административном устройстве общероссийской, а вместе с ней и сибирской почты происходили уже во второй половине XIX столетия.
Дальнейшие передвижения по служебной лестнице таковы: в 1844 году – чиновник 7-го класса, помощник почтового инспектора XI округа, коллежский советник. Производится за выслугу лет из коллежских в статские советники со старшинством с 07 июля 1846 года.
В 1848 году – коллежский советник, помощник почтового инспектора XI округа. Почтовым инспектором в это время служит статский советник Михаил Власьевич Грум-Гжимайло.
15 марта 1848 года помощник почтового инспектора XI округа статский советник Кокшаров переводится в Тобольское губернское правление советником по экспедиции о ссыльных.
07 июля 1848 года Кокшаров Иван Константинович – чиновник 5-го класса, советник Тобольского губернского правления, награжден орденом святой Анны 3 степени.
Увольнение от службы состоялось 16 ноября 1851 года по собственному прошению статского советника Тобольского губернского правления Кокшарова.
Эта же информация о судьбе Ивана Константиновича Кокшарова, ставшего родоначальником династии геологов и инженеров, также хорошо отслеживается по документам дела о внесении его сына Константина Ивановича Кокшарова в родословную дворянскую книгу.
Из приведенной выписки из метрической книги села Верхомуллинского (сама книга в архивах не сохранилась) мы узнаем, что родился Иван Константинович 18 мая 1789 года. (В деле сына Николая точной даты рождения указано не было.) Другие приведенные документы свидетельствуют, что с марта 1804 года он был пансионером горного кадетского корпуса «на собственном иждевении». По окончании публичных экзаменов был награжден «книгою, одною серебряною и одной золотою меньшими медалями». А по выпуске из корпуса 10 февраля 1810 года в чине Шихмейстера 13 класса принят на службу на Колывано-Воскресенские заводы. Во время следования к месту службы в соответствии с выданным ему приказом «обозревал на пути лежащие от Петербурга до Барнаула казенные заводы и промысла» и подготовил обширную докладную записку с «зделанные им горному и заводскому производству тех заводов и промыслов замечания», был исправен по службе и своевременно получал последующие сначала горные звания: Бергешворенном 12 класса в 1812, Гиттенфервалтера 10 класса в 1818 году, Маркшейдера 9 класса в 1823 году, Обер Гиттенфервалтера 8 класса в 1829, Обер Бегмейстера 7 класса в 1832 году, а затем и гражданские звания: Коллежского Советника в 1844 и Статского советника в 1846 году. В 1825 году был пожалован орденом Святой Анны 3 степени.
Несколько раз был откомандирован препровождать караваны с серебром в Санкт Петербург, служил в должности пристава при Барнаульских заводах, помощником начальникам заводов по особым поручениям, занимался поставкой свинца на заводы, был ассесором военного суда. Подал в отставку и был уволен с заводов 5 марта 1821 года и в том же году 10 июня принят в ведомство Екатеринбургских заводов, помещен на Берёзовские золотые промысла и через год возглавил их как управитель, прослужил которым следующие 12 лет. В январе 1834 года определен был чиновником разных поручений в Главную контору Екатеринбургских заводов.
Но не обошлось и без ложки дегтя – в том же 1834 году он был предан суду за упущение при строительстве канала по осушению в Екатеринбурге Шарташского озера. Разбирательство длилось несколько лет, и в результате, с учетом его заслуг во время продолжительной безупречной службы наказание было достаточно мягким – строгий выговор и запрет на выполнение подобных работ в дальнейшем.
Возможно, это и послужило причиной его переезда. В 1837 году он подал прошение об отставке, мотивируя это ухудшимся здоровьем и в 1842 переселился в Красноярск, заняв скромную должность помощника почтового инспектора, а через год в Тобольск на такую же должность. Но, судя по всему, его организаторские способности не остались незамеченными и в 1848 году он назначен Советником Тобольского Губернского правления по экспедиции, а вскоре и возглавил это правление. В том же году во время эпидемии холеры был членом губернского холерного комитета. Дважды награждался почетным знаком за 20 и 25 лет безупречной службы.
Закончил он свою карьеру в должности Советника Тобольского Губернского Правления в 1848 году. В документе зафиксировано, что недвижимого имения ни родового, ни приобретенного он не имел, а жена его имеет дом в Екатеринбурге. 30 ноября 1851 года по выходе в отставку Тобольским Губернским правлением им с женой выдан паспорт, позволяющий проживать во всех местах Российской империи. В 1856 году его уже вдова, Глафира Степановна, делала копию с этого «паспорта», хлопоча о пенсии, а умер Иван Константинович в возрасте 68 лет 16 июля 1856 года, отпет в Симеоно-Аннинском храме Сысертского завода и похоронен на приходском кладбище. В то время управляющим здесь служил сын Ивана Константиновича – Константин Иванович Кокшаров.
Сейчас, когда постепенно открывается удаленный доступ к архивным документам, каждый желающий может непосредственно ознакомиться с источниками, если повезет, обнаружить новые факты из жизни и биографии людей, оставивших свой след в истории государства и нашего «золотого» города Берёзовского.
Иван Кокшаров – дворянин, ученый, маркшейдер
Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф центральной городской библиотеки
// Березовский рабочий. – 2021. – 26 мая. – С. 6.
Березовчане хорошо знают располагающуюся на Центральном кладбище, вблизи храма Успения, старинную ротонду над могилами представителей знаменитых династий: княжеской грузинской – Эристави и рода заслуженных горняков – Кокшаровых. Увы, фамильное надгробие – памятник архитектуры XIX века, каковых в Берёзовском по пальцам перечесть, находится в довольно плачевном состоянии. Горько, ведь он связан с памятью о людях, вошедших в «золотой фонд» уральской истории.
Родословную своих предков – горных инженеров Кокшаровых – подробно представила Наталья Михайловна Степанова (публикация вошла в сборник статей Уральского генеалогического общества «Сплетались имена, сплетались страны». Выпуск 1. Екатеринбург, 1997). Об уральских потомках грузинских князей Эристовых историк Александр Филимонов написал солидную статью «В Российской империи вечно остался…» (опубликована в 2007-2008 годах в журнале «Веси» и газете «Берёзовский рабочий»). В них много говорится о выдающихся представителях династии Эристовых-Кокшаровых, но, к сожалению, мало сказано о родоначальнике – Иване Кокшарове.
Из архивных источников нам известно, что Иван Константинович родился в 1790 году в дворянской семье, окончил Горный кадетский корпус (впоследствии Горный институт) в Санкт-Петербурге. В 1813-м свежеиспеченный специалист горного дела был командирован на службу на алтайские заводы и рудники. В Усть-Каменогорской крепости молодой человек знакомится с дочерью коменданта, генерал-лейтенанта князя Степана Давыдовича Эристова, Глафирой Степановной и женится на ней. 23 ноября 1818 года у них рождается первенец Николай, а четыре года спустя – сын Константин.
В 1822 году дворянина, маркшейдера 9 класса, кавалера ордена св. Анны третьей степени Ивана Кокшарова назначают управляющим Берёзовскими золотыми промыслами. На новое место назначения он отправился с женой и сыновьями. С ними поехали мать Глафиры Степановны, к тому времени уже овдовевшая княгиня Мария Гавриловна Эристова и две ее незамужние дочери Елена и Варвара. Так в Берёзовском заводе оказались потомки древнего грузинского княжеского рода Эристави.
Николаю Ивановичу, старшему сыну Кокшаровых, суждено будет стать одним из творцов русской науки: знаменитым геологом, кристаллографом, ученым с мировым именем. В 1964 году в издательстве «Наука» вышла монография И. И. Шафрановского «Николай Иванович Кокшаров», посвященная «отцу минералогической кристаллографии», в которой было представлено подробное жизнеописание выдающегося ученого, составленное на основе архивных материалов и «Воспоминаний» самого Н. И. Кокшарова. Из этого источника мы смогли почерпнуть сведения о «берёзовском периоде» жизни семьи Кокшаровых и интереснейшие зарисовки самого завода начала XIX века:
«Отец мой выехал к нам на встречу за несколько верст и привез в лучший из имеющихся на заводе домов, так называемый «управительский дом», расположенный перед заводским прудом, за которым находилась белая каменная церковь (во имя св. пр. Илии), незавидной архитектуры, но довольно большая.
Рядом с управительским домом помещалась заводская контора с присутственным местом и казначейством, и так как здесь хранилось золото, вымытое на окрестных рудниках, и казенные суммы денег, то перед входом в контору устроена была гауптвахта. На крыше конторы возвышалась башенка, вроде колокольни, с небольшим колоколом. Посредством веревки, протянутой от колокола, находящийся на гауптвахте солдат аккуратно бил часы каждый час, а во время пожара – в набат. Прибитые на конторе часы тотчас же повторялись на колокольне заводской церкви. Ежедневно, в девять часов вечера, барабанщик на гауптвахте бил зорю, что нам, детям, очень нравилось.
Вокруг пруда помещались домики, в которых проживали старшие из служащих на заводе инженеров и чиновников. Это было самое парадное место завода, которое отец мой в шутку называл «Дворцовою набережною», так как здесь ряд домов начинался домом, где останавливался Император Александр I во время своего путешествия по Уралу. В более или менее удаленных от этой набережной местах проживали горные чиновники менее важные и другие служащие завода…».
Иван Константинович был прекрасным горным инженером. Известен такой факт: в 1823 году управляющий Верх-Исетским заводом Китаев изобрел первую оригинальную машину для промывки песков, за что получил золотую медаль, а в 1826 году маркшейдер Кокшаров изобрел машину, которая работала чище, чем китаевская!
Был он большим любителем минералов, и это увлечение передалось сыну. Из воспоминаний Николая Кокшарова: «Минералы, приносимые отцу с рудников, начали обращать мое внимание; я скоро научился различать их, и видя, как отец раскладывает у себя минералы на полках, стал подражать ему».
Иван Константинович был весьма строг и требователен к своим детям, однако из каждой своей поездки по делам в Екатеринбург всегда привозил подарки, и это в памяти осталось ощущением праздника.
Забота видна была и в отношении управляющего к рабочим. Николай вспоминал такой случай: «… один раз мой отец послал двух мастеровых пострелять дичи, снабдив их ружьями с дробью, и строго наказал, чтобы они не смели ходить на медведя. Вечером пришли посланные к отцу с повинной головой; у одного оказалась на голове повязка, так как несчастный попался под медведя, который обработал его по-своему. Отец сердился, матушка была очень огорчена и поила пострадавших вином, а мы, дети, плакали.
– Как же вы могли, говорил отец, идти на медведя, имея при себе только ружья, заряженные дробью, топоры и ножи?
– Не утерпели, батюшка Иван Константинович, отвечали они, простите, не в первый раз. Медведя-то прикажите убрать, мы его порешили…».
А в доме управляющего обычным развлечением детей был «теневой театр», который устраивал «один из мастеровых (ссыльнокаторжный с клеймами на лице), некто Жуков», который вообще был личностью загадочной – каждый год повторялась одна и та же история: отработав зиму, Жуков летом подавался в бега, а осенью возвращался в завод. Его пороли, после чего Иван Константинович снова допускал его и к работе, и к дому.
Сильное впечатление произвел на маленького Колю приезд в Берёзовский завод императора Александра I: «Я помню, как все в доме у нас зашевелилось, заговорило… Все дни, до приезда государя, на заводе в окрестных рудниках происходила лихорадочная деятельность: везде починяли, чистили, красили, словом, делали все возможное, чтобы перед владыкою Руси не ударить лицом в грязь. Немало было разговоров о том, где принять его величество, и, наконец, решили один из заводских домов превратить во дворец. Отец очень хлопотал об его устройстве, меблировке и проч., а бабушка по этому случаю вытащила из своих сундуков старинный саксонский фарфор и серебро. Предполагалось, что Государь спустится в рудники, и поэтому отец на одном из них вместо обычных рудничных «стремянок» устроил удобную лестницу…» (Прошло 200 лет, а в «сценарии» приема первых лиц государства ничего, по сути, не изменилось).
За годы своей службы в качестве управляющего Берёзовскими золотыми промыслами Иван Константинович Кокшаров проявил себя как незаурядный специалист в горном деле. К тому же он оказал благотворное влияние на развитие общественной и культурной жизни Берёзовского завода.
В 1827 году умирают незамужняя княжна Варвара Эристави и двухлетний сын Ивана Константиновича Павел. А в 1835 году не стало и княгини Марии Гавриловны Эристовой (Николай к тому времени уже учится в столичном Горном кадетском корпусе).
Выйдя в отставку в 1838 году, Иван Константинович переехал в Екатеринбург. Когда он умер и где нашел свой последний покой, нам неизвестно. Не сохранилось и портрета Ивана Константиновича. Только старая, ветшающая с каждым годом ротонда на Центральном кладбище Берёзовского хранит память о том, что сто лет назад в заводе начиналась династия ученых с мировым именем.
Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф центральной городской библиотеки
// Березовский рабочий. – 2021. – 26 мая. – С. 6.
Березовчане хорошо знают располагающуюся на Центральном кладбище, вблизи храма Успения, старинную ротонду над могилами представителей знаменитых династий: княжеской грузинской – Эристави и рода заслуженных горняков – Кокшаровых. Увы, фамильное надгробие – памятник архитектуры XIX века, каковых в Берёзовском по пальцам перечесть, находится в довольно плачевном состоянии. Горько, ведь он связан с памятью о людях, вошедших в «золотой фонд» уральской истории.
Родословную своих предков – горных инженеров Кокшаровых – подробно представила Наталья Михайловна Степанова (публикация вошла в сборник статей Уральского генеалогического общества «Сплетались имена, сплетались страны». Выпуск 1. Екатеринбург, 1997). Об уральских потомках грузинских князей Эристовых историк Александр Филимонов написал солидную статью «В Российской империи вечно остался…» (опубликована в 2007-2008 годах в журнале «Веси» и газете «Берёзовский рабочий»). В них много говорится о выдающихся представителях династии Эристовых-Кокшаровых, но, к сожалению, мало сказано о родоначальнике – Иване Кокшарове.
Из архивных источников нам известно, что Иван Константинович родился в 1790 году в дворянской семье, окончил Горный кадетский корпус (впоследствии Горный институт) в Санкт-Петербурге. В 1813-м свежеиспеченный специалист горного дела был командирован на службу на алтайские заводы и рудники. В Усть-Каменогорской крепости молодой человек знакомится с дочерью коменданта, генерал-лейтенанта князя Степана Давыдовича Эристова, Глафирой Степановной и женится на ней. 23 ноября 1818 года у них рождается первенец Николай, а четыре года спустя – сын Константин.
В 1822 году дворянина, маркшейдера 9 класса, кавалера ордена св. Анны третьей степени Ивана Кокшарова назначают управляющим Берёзовскими золотыми промыслами. На новое место назначения он отправился с женой и сыновьями. С ними поехали мать Глафиры Степановны, к тому времени уже овдовевшая княгиня Мария Гавриловна Эристова и две ее незамужние дочери Елена и Варвара. Так в Берёзовском заводе оказались потомки древнего грузинского княжеского рода Эристави.
Николаю Ивановичу, старшему сыну Кокшаровых, суждено будет стать одним из творцов русской науки: знаменитым геологом, кристаллографом, ученым с мировым именем. В 1964 году в издательстве «Наука» вышла монография И. И. Шафрановского «Николай Иванович Кокшаров», посвященная «отцу минералогической кристаллографии», в которой было представлено подробное жизнеописание выдающегося ученого, составленное на основе архивных материалов и «Воспоминаний» самого Н. И. Кокшарова. Из этого источника мы смогли почерпнуть сведения о «берёзовском периоде» жизни семьи Кокшаровых и интереснейшие зарисовки самого завода начала XIX века:
«Отец мой выехал к нам на встречу за несколько верст и привез в лучший из имеющихся на заводе домов, так называемый «управительский дом», расположенный перед заводским прудом, за которым находилась белая каменная церковь (во имя св. пр. Илии), незавидной архитектуры, но довольно большая.
Рядом с управительским домом помещалась заводская контора с присутственным местом и казначейством, и так как здесь хранилось золото, вымытое на окрестных рудниках, и казенные суммы денег, то перед входом в контору устроена была гауптвахта. На крыше конторы возвышалась башенка, вроде колокольни, с небольшим колоколом. Посредством веревки, протянутой от колокола, находящийся на гауптвахте солдат аккуратно бил часы каждый час, а во время пожара – в набат. Прибитые на конторе часы тотчас же повторялись на колокольне заводской церкви. Ежедневно, в девять часов вечера, барабанщик на гауптвахте бил зорю, что нам, детям, очень нравилось.
Вокруг пруда помещались домики, в которых проживали старшие из служащих на заводе инженеров и чиновников. Это было самое парадное место завода, которое отец мой в шутку называл «Дворцовою набережною», так как здесь ряд домов начинался домом, где останавливался Император Александр I во время своего путешествия по Уралу. В более или менее удаленных от этой набережной местах проживали горные чиновники менее важные и другие служащие завода…».
Иван Константинович был прекрасным горным инженером. Известен такой факт: в 1823 году управляющий Верх-Исетским заводом Китаев изобрел первую оригинальную машину для промывки песков, за что получил золотую медаль, а в 1826 году маркшейдер Кокшаров изобрел машину, которая работала чище, чем китаевская!
Был он большим любителем минералов, и это увлечение передалось сыну. Из воспоминаний Николая Кокшарова: «Минералы, приносимые отцу с рудников, начали обращать мое внимание; я скоро научился различать их, и видя, как отец раскладывает у себя минералы на полках, стал подражать ему».
Иван Константинович был весьма строг и требователен к своим детям, однако из каждой своей поездки по делам в Екатеринбург всегда привозил подарки, и это в памяти осталось ощущением праздника.
Забота видна была и в отношении управляющего к рабочим. Николай вспоминал такой случай: «… один раз мой отец послал двух мастеровых пострелять дичи, снабдив их ружьями с дробью, и строго наказал, чтобы они не смели ходить на медведя. Вечером пришли посланные к отцу с повинной головой; у одного оказалась на голове повязка, так как несчастный попался под медведя, который обработал его по-своему. Отец сердился, матушка была очень огорчена и поила пострадавших вином, а мы, дети, плакали.
– Как же вы могли, говорил отец, идти на медведя, имея при себе только ружья, заряженные дробью, топоры и ножи?
– Не утерпели, батюшка Иван Константинович, отвечали они, простите, не в первый раз. Медведя-то прикажите убрать, мы его порешили…».
А в доме управляющего обычным развлечением детей был «теневой театр», который устраивал «один из мастеровых (ссыльнокаторжный с клеймами на лице), некто Жуков», который вообще был личностью загадочной – каждый год повторялась одна и та же история: отработав зиму, Жуков летом подавался в бега, а осенью возвращался в завод. Его пороли, после чего Иван Константинович снова допускал его и к работе, и к дому.
Сильное впечатление произвел на маленького Колю приезд в Берёзовский завод императора Александра I: «Я помню, как все в доме у нас зашевелилось, заговорило… Все дни, до приезда государя, на заводе в окрестных рудниках происходила лихорадочная деятельность: везде починяли, чистили, красили, словом, делали все возможное, чтобы перед владыкою Руси не ударить лицом в грязь. Немало было разговоров о том, где принять его величество, и, наконец, решили один из заводских домов превратить во дворец. Отец очень хлопотал об его устройстве, меблировке и проч., а бабушка по этому случаю вытащила из своих сундуков старинный саксонский фарфор и серебро. Предполагалось, что Государь спустится в рудники, и поэтому отец на одном из них вместо обычных рудничных «стремянок» устроил удобную лестницу…» (Прошло 200 лет, а в «сценарии» приема первых лиц государства ничего, по сути, не изменилось).
За годы своей службы в качестве управляющего Берёзовскими золотыми промыслами Иван Константинович Кокшаров проявил себя как незаурядный специалист в горном деле. К тому же он оказал благотворное влияние на развитие общественной и культурной жизни Берёзовского завода.
В 1827 году умирают незамужняя княжна Варвара Эристави и двухлетний сын Ивана Константиновича Павел. А в 1835 году не стало и княгини Марии Гавриловны Эристовой (Николай к тому времени уже учится в столичном Горном кадетском корпусе).
Выйдя в отставку в 1838 году, Иван Константинович переехал в Екатеринбург. Когда он умер и где нашел свой последний покой, нам неизвестно. Не сохранилось и портрета Ивана Константиновича. Только старая, ветшающая с каждым годом ротонда на Центральном кладбище Берёзовского хранит память о том, что сто лет назад в заводе начиналась династия ученых с мировым именем.
Мария Гавриловна Хворова – княгиня Эристова
Автор – Т. В. Гребенщикова
24 января 1769 года у таможенного комиссара Гаврилы Хворова и его жены Евдокии Егоровны родилась дочь Маша – будущая княгиня Мария Гавриловна Эристова[1]. Крещение совершалось в Иоанно-Богословской церкви Усть-Каменогорской крепости.
В семье комиссара, кроме Марии, росли старшие Прасковья, Василий и Анна, да потом еще появились на свет Михаил и Екатерина[2].
Прасковью в феврале 1775 года выдали замуж за капитана Семипалатного батальона Гаврилу Ушакова[3]. При венчании в той же Иоанно-Богословской церкви отец невесты Гаврила Хворов представлен как тобольский дворянин, комиссар Семипалатной пограничной таможни. Далее в метрических книгах его статус сохраняется, а вот дочь Параскева через 14 лет встречается в записях уже как вдова-капитанская жена.
Запись о браке дворянки Марии Гавриловны Хворовой с вдовцом князем Эристовым в имеющихся документах обнаружить не удалось, надо учитывать, что часть их просто не сохранилась, однако известно, первая супруга Степана Давидовича, грузинская княжна Варвара Матвеевна, урожденная Баратаева, скончалась 3 февраля 1785 года в возрасте 37 лет[4], а первое упоминание о рождении детей в семье Марии и князя относится к 1789 году[5]. В этот год 21 мая у них появилась дочь Александра, восприемницей значится вдовствующая уже Параскева Гавриловна Ушакова – сестра Марии. Самой Марии на тот момент было 20 лет.
Князь Эристов, судя по метрикам церквей Усть-Каменогорска, имел немало титулов и званий: князь, подполковник, генерал-лейтенант, генерал-майор, пример-майор, кавалер, комендант крепости. Когда он был назначен комендантом, точно не установлено, но впервые в источниках Омской духовной консистории, размещенных в поисковой системе Яндекс-архивы о нем, как о коменданте Усть-Каменогорской крепости, упоминается в январе 1780 года. В 1801 году он отставной генерал-лейтенант. Запись о его кончине обнаружилась в 1804 году: 08 февраля от водянки в возрасте 74 лет умер отставной генерал-лейтенант, князь Степан Эристов[6].
С этого времени тридцатипятилетняя княгиня Мария Гавриловна – вдова генерал-лейтенанта и глава семейства. Дочерям, Александре еще нет пятнадцати, Елене – десяти, Глафире – восьми, а Варвара совсем младенец! Жаль, что нет сыновей. Павел, рожденный в июне 1800, умер от оспы в полтора года[7]. Умная, рассудительная княгиня в апреле 1807 года выдает замуж старшую дочь[8]. Жених – 25-ти летний Губернский секретарь 13 класса Федор Иванович Зеленцов. Венчание проходит в Усть-Каменогорской церкви во имя Иоанна Богослова, а в 1811 году в Свято-Троицкой церкви Усть-Каменогорска крестят младенца Ксению, дочку секретаря Томской губернии Федора Зеленцова и княжны Александры Степановны[9]. Восприемниками записаны вдова генерал-лейтенантша Мария Гавриловна, бабушка новорожденной, и штаб-лекарь Томского батальона Алексей Протопопов.
В 1817 году средняя дочь Глафира венчается в Свято-Троицком храме с «горного начальства бергешвореном» Иваном Кокшаровым[10]. Таинство совершал священник Николай Пушкарев при дьяконе Серебренникове, а поручителем был 8-го казачьего полка полковой командир хорунжий Евграф Иванов. Судьба связала профессиональную биографию Кокшарова с горным делом – выпускник Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге должен был служить там, куда его направляло начальство. В 1813 году это Колывано-Воскресенские заводы, которые находились неподалеку от Усть-Каменогорской крепости, здесь и произошло знакомство горного инженера с семьей князя Эристова. Невольно возникают образы из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», разница лишь в том, что самого коменданта Эристова на тот момент уже не было в живых.
В 1818 году Иван Константинович имеет чин капитана Усть-Каменогорского горного ведомства и у него 26 ноября рождается первенец Николай, будущий ученый с мировым именем[11]. Крестной, конечно же, записана бабушка Мария Гавриловна, а крестным Усть-Каменогорского батальона подполковник Капченков.
Вслед за Николаем в Усть-Каменогорске у Кокшаровых появляются на свет близнецы Александр и Мария, младший Дмитрий. Следующий сын Константин родился уже в Берёзовском заводе, о чем есть запись в метрической книге Пророко-Ильинской церкви от 22 ноября 1822 года[12].
Как окажется позднее, Мария Гавриловна принимала горячее участие в судьбах не только дочерей, но и внуков. Доказательством тому послужит запись из метрики уже Пророко-Ильинской церкви Березовского завода от 22 мая 1826 года, когда бабушка выдавала замуж свою внучку Лидию Зеленцову 14-ти лет за достойного жениха – Гороблагодатских заводов шихтмейстера Григория Москвина 25-ти лет, а поручителем при венчании был «тысяцкой Березовского завода маркшейдер и кавалер Иван Кокшаров» – зять Марии Гавриловны[13].
О заботливом внимании бабушки к внукам трогательно и подробно в своих воспоминаниях пишет Николай Иванович Кокшаров.
Удалось точно определить, когда перебрался на Березовские золотые промыслы Иван Константинович с женой и детьми. Его перевод состоялся 10 июня 1821 года[14]. Однако, княгиня Мария Гавриловна появилась здесь не сразу. Установлено, что в июле 1821 года, а также в августе 1822, феврале и августе 1823 года вдова еще живет в Усть-Каменогорске и имеет дворовых людей, но некоторых уже начала отпускать на волю – видимо, собираясь в дальнюю поездку на Урал[15].
И вот 15 марта 1824 года Мария Гавриловна с дочерьми Еленой и Варварой причащаются в Пророко-Илиинской церкви Берёзовского завода, а в Исповедной росписи записаны в семье Кокшаровых[16]. Вскоре Мария Гавриловна жила отдельно, так как 27 сентября 1824 года в день визита на Березовские промыслы государя-императора Александра I внуки находились у бабушки и наблюдали царский экипаж, когда тот следовал от плотины в Пышминский завод мимо ее дома. Опираясь на воспоминания Николая Ивановича Кокшарова, можно предположить, что дом, располагавшийся недалеко от Пророко-Илиинской церкви, стоял в районе нынешней школы №33, как раз там, где на плане 1809 года отмечены казенные строения.
Мария Гавриловна была женщиной набожной, в Берёзовском заводе сразу по приезде из Усть-Каменогорска завела знакомство с семьей дьякона, вскоре произведенного в сан священника, Александра Павловича Бирюкова и его жены Елизаветы Егоровны. Участие княгини в качестве восприемницы при крещении их детей свидетельствует о дружеских отношениях и взаимном общении.
Свою дочь Елену Мария Гавриловна выдала замуж уже на Урале за горного инженера Гороблагодатских заводов Москвина Григория Григорьевича, их сыновья Олимпий и Григорий продолжили династию отца и впоследствии какое-то время служили на рудниках Берёзовского завода.
А вот Варвара так и не вышла замуж, заболела и умерла совсем молодой в 1827 году от горячки[17].
Сама княгиня упокоилась на приходском кладбище, как указано на памятнике 8 мая 1835 года, но подтвердить это документально нет возможности, метрические книги за этот период отсутствуют. Ее внуки в память о бабушке установили ротонду, которая сохранилась до сих пор, но требует реставрации и капитального ремонта.
Дочь тобольского дворянина, таможенного комиссара Мария Гавриловна, не будучи грузинкой по происхождению, сумела воспринять, сохранить и приумножить традиции, заложенные князем Степаном Давидовичем Эристави и его предками, она после смерти мужа взяла на себя обязанности главы семейства, стала его центральной фигурой, передавала и детям, и внукам важное качество беречь отношения внутри рода, помогать и поддерживать близких. Сегодня потомки Зеленцовых, Москвиных, Кокшаровых должны гордиться такой прародительницей!
Подробно о княжеском роде Эристави мы можем узнать из публикаций историка А.Филимонова в журнале «Веси».
[1] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 157
[2] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 286, 399, 568
[3] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 568
[4] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 3, Стр. 255
[5] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 3, Стр. 295
[6] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 305
[7] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 148, 184
[8] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 480
[9] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 19
[10] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 492
[11] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 596
[12] ГАСО Фонд 6, Оп. 1, Дело 56, Стр. 79
[13] ГАСО Фонд 6, Оп. 3, Дело 175, Стр. 1013 об.
[14] ГАСО Фонд 41, Оп. 1, Дело 632 Стр. 341, 700
[15] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 31, 42, 149, 261, 264, 268
[16] ГАСО Фонд 24, Оп. 23, Дело 7168 Стр. 1668
[17] ГАСО Фонд 6, Оп. 3, Дело 176
В семье комиссара, кроме Марии, росли старшие Прасковья, Василий и Анна, да потом еще появились на свет Михаил и Екатерина[2].
Прасковью в феврале 1775 года выдали замуж за капитана Семипалатного батальона Гаврилу Ушакова[3]. При венчании в той же Иоанно-Богословской церкви отец невесты Гаврила Хворов представлен как тобольский дворянин, комиссар Семипалатной пограничной таможни. Далее в метрических книгах его статус сохраняется, а вот дочь Параскева через 14 лет встречается в записях уже как вдова-капитанская жена.
Запись о браке дворянки Марии Гавриловны Хворовой с вдовцом князем Эристовым в имеющихся документах обнаружить не удалось, надо учитывать, что часть их просто не сохранилась, однако известно, первая супруга Степана Давидовича, грузинская княжна Варвара Матвеевна, урожденная Баратаева, скончалась 3 февраля 1785 года в возрасте 37 лет[4], а первое упоминание о рождении детей в семье Марии и князя относится к 1789 году[5]. В этот год 21 мая у них появилась дочь Александра, восприемницей значится вдовствующая уже Параскева Гавриловна Ушакова – сестра Марии. Самой Марии на тот момент было 20 лет.
Князь Эристов, судя по метрикам церквей Усть-Каменогорска, имел немало титулов и званий: князь, подполковник, генерал-лейтенант, генерал-майор, пример-майор, кавалер, комендант крепости. Когда он был назначен комендантом, точно не установлено, но впервые в источниках Омской духовной консистории, размещенных в поисковой системе Яндекс-архивы о нем, как о коменданте Усть-Каменогорской крепости, упоминается в январе 1780 года. В 1801 году он отставной генерал-лейтенант. Запись о его кончине обнаружилась в 1804 году: 08 февраля от водянки в возрасте 74 лет умер отставной генерал-лейтенант, князь Степан Эристов[6].
С этого времени тридцатипятилетняя княгиня Мария Гавриловна – вдова генерал-лейтенанта и глава семейства. Дочерям, Александре еще нет пятнадцати, Елене – десяти, Глафире – восьми, а Варвара совсем младенец! Жаль, что нет сыновей. Павел, рожденный в июне 1800, умер от оспы в полтора года[7]. Умная, рассудительная княгиня в апреле 1807 года выдает замуж старшую дочь[8]. Жених – 25-ти летний Губернский секретарь 13 класса Федор Иванович Зеленцов. Венчание проходит в Усть-Каменогорской церкви во имя Иоанна Богослова, а в 1811 году в Свято-Троицкой церкви Усть-Каменогорска крестят младенца Ксению, дочку секретаря Томской губернии Федора Зеленцова и княжны Александры Степановны[9]. Восприемниками записаны вдова генерал-лейтенантша Мария Гавриловна, бабушка новорожденной, и штаб-лекарь Томского батальона Алексей Протопопов.
В 1817 году средняя дочь Глафира венчается в Свято-Троицком храме с «горного начальства бергешвореном» Иваном Кокшаровым[10]. Таинство совершал священник Николай Пушкарев при дьяконе Серебренникове, а поручителем был 8-го казачьего полка полковой командир хорунжий Евграф Иванов. Судьба связала профессиональную биографию Кокшарова с горным делом – выпускник Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге должен был служить там, куда его направляло начальство. В 1813 году это Колывано-Воскресенские заводы, которые находились неподалеку от Усть-Каменогорской крепости, здесь и произошло знакомство горного инженера с семьей князя Эристова. Невольно возникают образы из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», разница лишь в том, что самого коменданта Эристова на тот момент уже не было в живых.
В 1818 году Иван Константинович имеет чин капитана Усть-Каменогорского горного ведомства и у него 26 ноября рождается первенец Николай, будущий ученый с мировым именем[11]. Крестной, конечно же, записана бабушка Мария Гавриловна, а крестным Усть-Каменогорского батальона подполковник Капченков.
Вслед за Николаем в Усть-Каменогорске у Кокшаровых появляются на свет близнецы Александр и Мария, младший Дмитрий. Следующий сын Константин родился уже в Берёзовском заводе, о чем есть запись в метрической книге Пророко-Ильинской церкви от 22 ноября 1822 года[12].
Как окажется позднее, Мария Гавриловна принимала горячее участие в судьбах не только дочерей, но и внуков. Доказательством тому послужит запись из метрики уже Пророко-Ильинской церкви Березовского завода от 22 мая 1826 года, когда бабушка выдавала замуж свою внучку Лидию Зеленцову 14-ти лет за достойного жениха – Гороблагодатских заводов шихтмейстера Григория Москвина 25-ти лет, а поручителем при венчании был «тысяцкой Березовского завода маркшейдер и кавалер Иван Кокшаров» – зять Марии Гавриловны[13].
О заботливом внимании бабушки к внукам трогательно и подробно в своих воспоминаниях пишет Николай Иванович Кокшаров.
Удалось точно определить, когда перебрался на Березовские золотые промыслы Иван Константинович с женой и детьми. Его перевод состоялся 10 июня 1821 года[14]. Однако, княгиня Мария Гавриловна появилась здесь не сразу. Установлено, что в июле 1821 года, а также в августе 1822, феврале и августе 1823 года вдова еще живет в Усть-Каменогорске и имеет дворовых людей, но некоторых уже начала отпускать на волю – видимо, собираясь в дальнюю поездку на Урал[15].
И вот 15 марта 1824 года Мария Гавриловна с дочерьми Еленой и Варварой причащаются в Пророко-Илиинской церкви Берёзовского завода, а в Исповедной росписи записаны в семье Кокшаровых[16]. Вскоре Мария Гавриловна жила отдельно, так как 27 сентября 1824 года в день визита на Березовские промыслы государя-императора Александра I внуки находились у бабушки и наблюдали царский экипаж, когда тот следовал от плотины в Пышминский завод мимо ее дома. Опираясь на воспоминания Николая Ивановича Кокшарова, можно предположить, что дом, располагавшийся недалеко от Пророко-Илиинской церкви, стоял в районе нынешней школы №33, как раз там, где на плане 1809 года отмечены казенные строения.
Мария Гавриловна была женщиной набожной, в Берёзовском заводе сразу по приезде из Усть-Каменогорска завела знакомство с семьей дьякона, вскоре произведенного в сан священника, Александра Павловича Бирюкова и его жены Елизаветы Егоровны. Участие княгини в качестве восприемницы при крещении их детей свидетельствует о дружеских отношениях и взаимном общении.
Свою дочь Елену Мария Гавриловна выдала замуж уже на Урале за горного инженера Гороблагодатских заводов Москвина Григория Григорьевича, их сыновья Олимпий и Григорий продолжили династию отца и впоследствии какое-то время служили на рудниках Берёзовского завода.
А вот Варвара так и не вышла замуж, заболела и умерла совсем молодой в 1827 году от горячки[17].
Сама княгиня упокоилась на приходском кладбище, как указано на памятнике 8 мая 1835 года, но подтвердить это документально нет возможности, метрические книги за этот период отсутствуют. Ее внуки в память о бабушке установили ротонду, которая сохранилась до сих пор, но требует реставрации и капитального ремонта.
Дочь тобольского дворянина, таможенного комиссара Мария Гавриловна, не будучи грузинкой по происхождению, сумела воспринять, сохранить и приумножить традиции, заложенные князем Степаном Давидовичем Эристави и его предками, она после смерти мужа взяла на себя обязанности главы семейства, стала его центральной фигурой, передавала и детям, и внукам важное качество беречь отношения внутри рода, помогать и поддерживать близких. Сегодня потомки Зеленцовых, Москвиных, Кокшаровых должны гордиться такой прародительницей!
Подробно о княжеском роде Эристави мы можем узнать из публикаций историка А.Филимонова в журнале «Веси».
[1] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 157
[2] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 286, 399, 568
[3] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 2, Стр. 568
[4] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 3, Стр. 255
[5] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 3, Стр. 295
[6] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 305
[7] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 148, 184
[8] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 33, Стр. 480
[9] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 19
[10] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 492
[11] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 596
[12] ГАСО Фонд 6, Оп. 1, Дело 56, Стр. 79
[13] ГАСО Фонд 6, Оп. 3, Дело 175, Стр. 1013 об.
[14] ГАСО Фонд 41, Оп. 1, Дело 632 Стр. 341, 700
[15] ИАОО Фонд 16, Оп. 2, Дело 48, Стр. 31, 42, 149, 261, 264, 268
[16] ГАСО Фонд 24, Оп. 23, Дело 7168 Стр. 1668
[17] ГАСО Фонд 6, Оп. 3, Дело 176